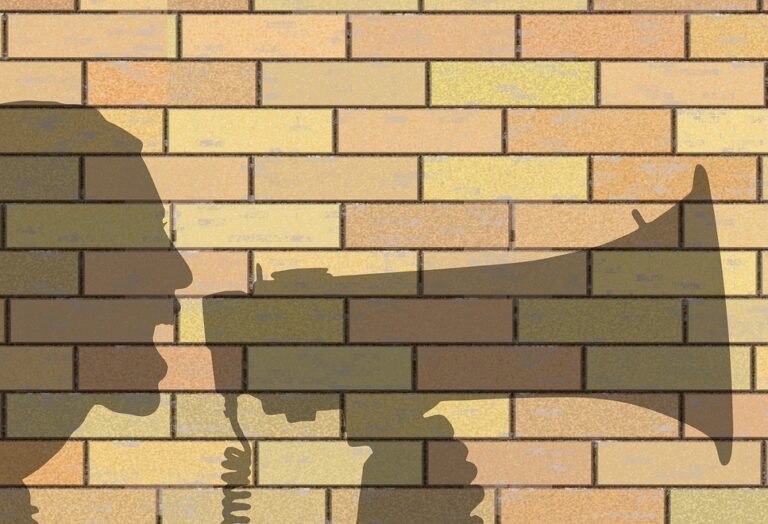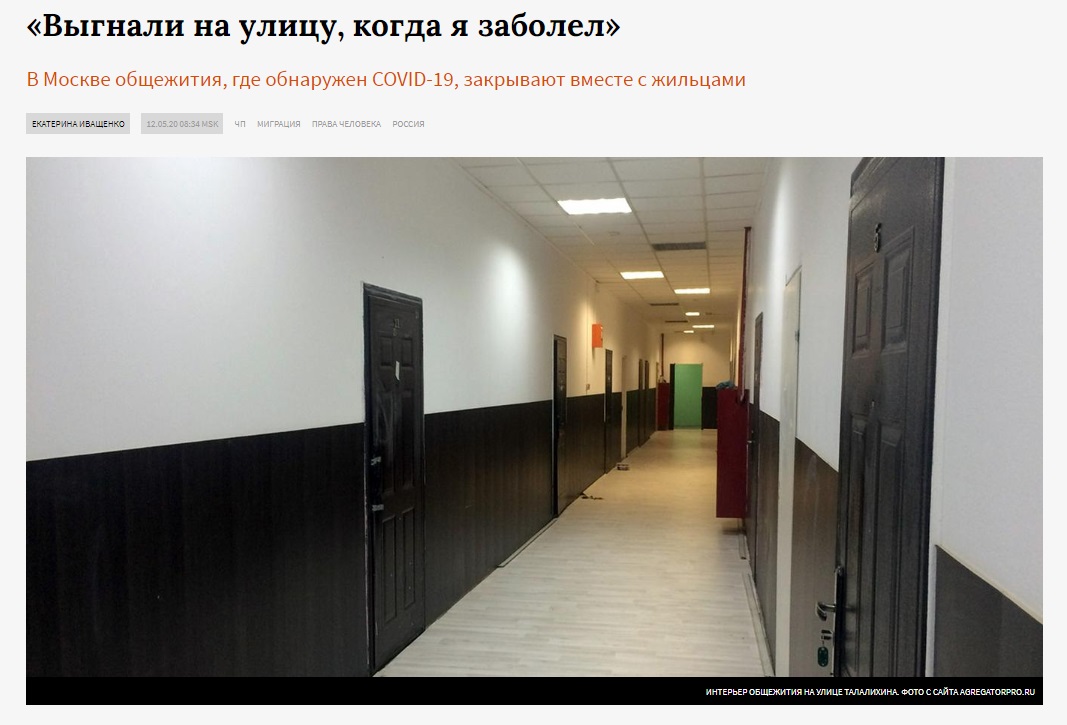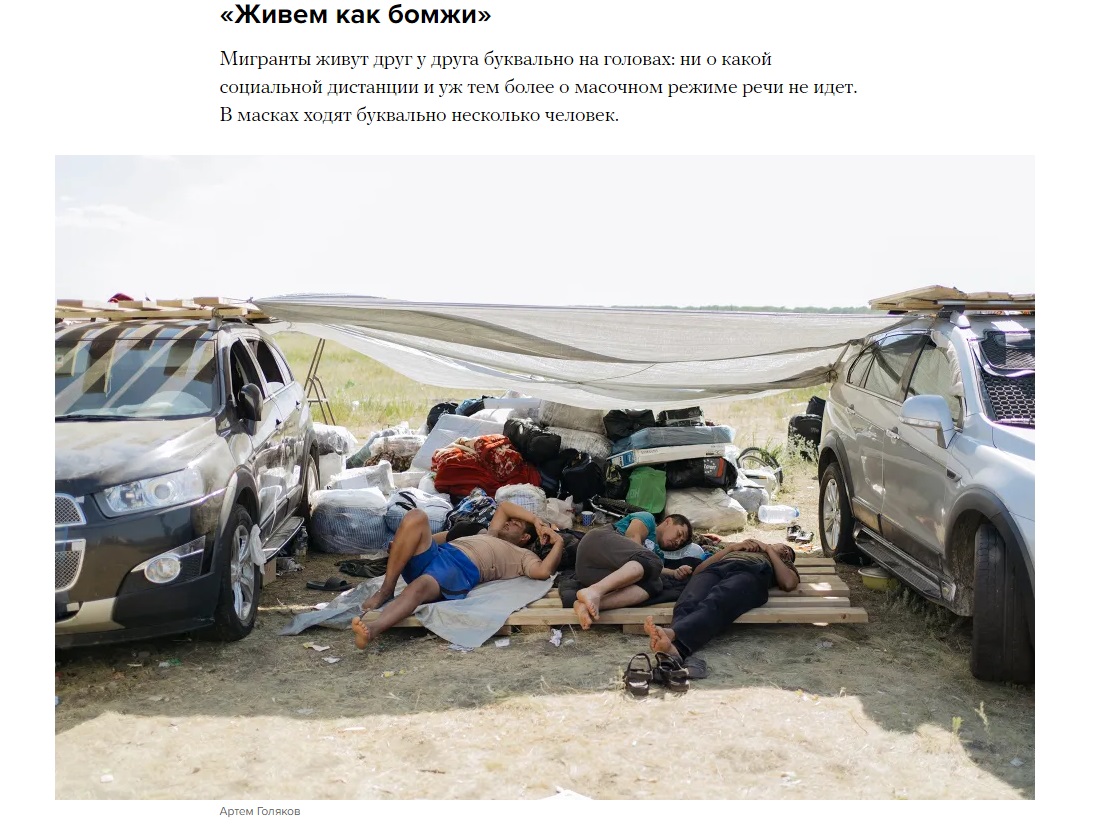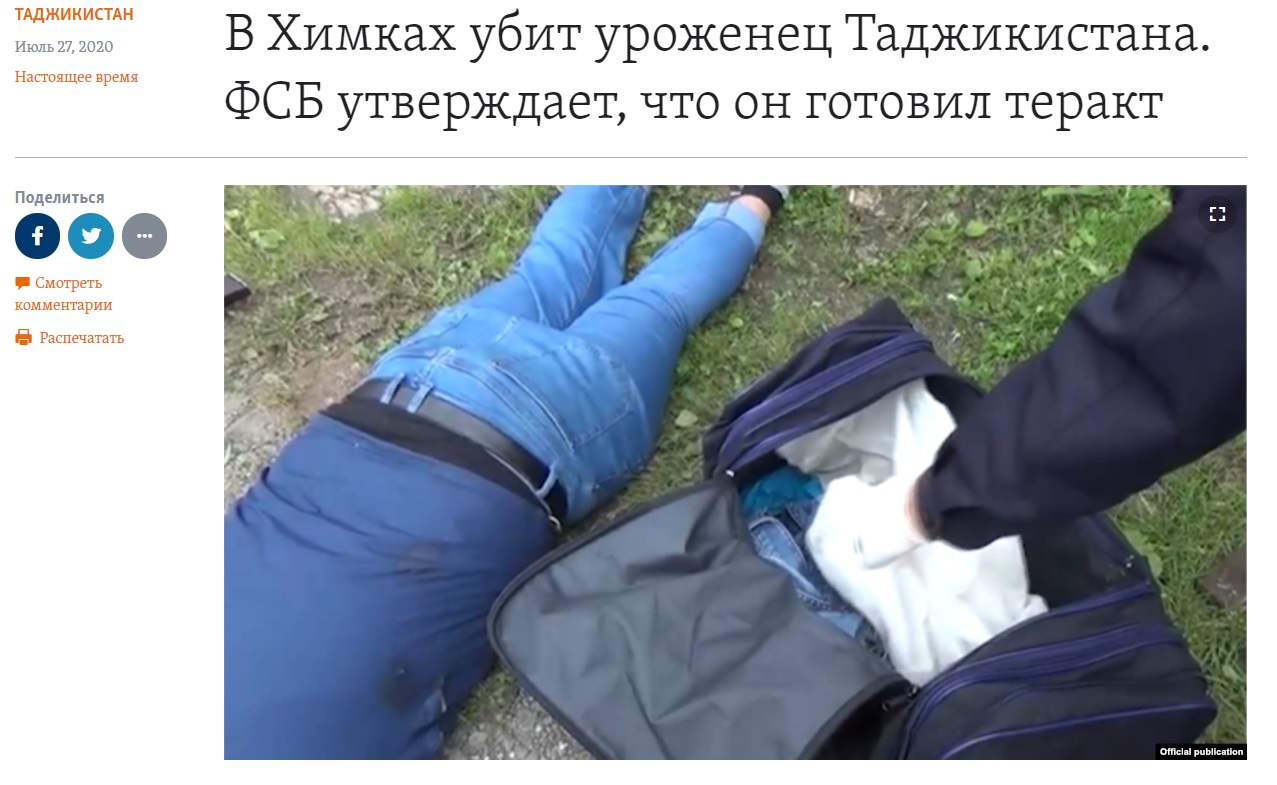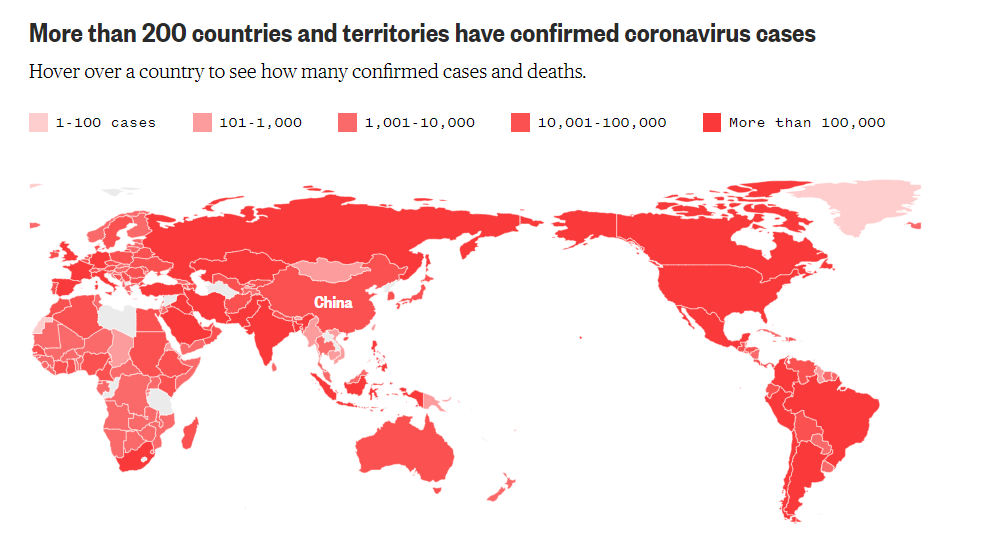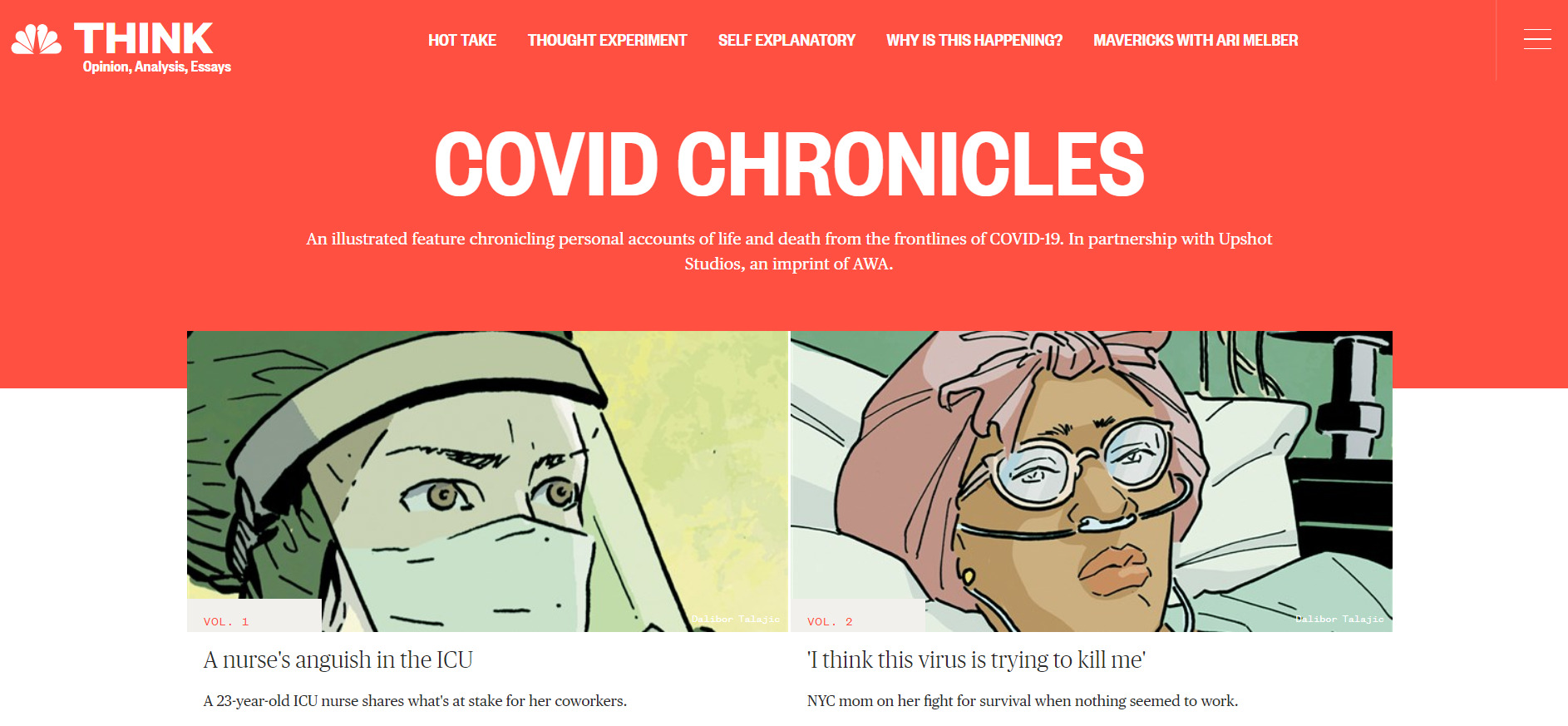На днях министр информации и общественного развития РК Аида Балаева утвердила новый закон, регулирующий работу сотрудников СМИ во время мирных собраний. Как должен выглядеть журналист? Подпадают ли под законодательство блогеры? Что изменится в принципе? «Новый репортёр» рассказывает о новых правилах.
| 1. Зачем нужны эти правила?
Согласны, особых причин для этих правил не было, журналист вправе посещать публичные мероприятия и освещать события без каких-либо дополнительных правил, в том числе мирные собрания. Но правила приняты, несмотря на возражения медиаНПО и редакций СМИ. Сейчас они о том, какие условия должны создать местные органы власти для освещения журналистами мирных собраний. |
| 2. Какие документы должен иметь при себе журналист?
Служебное удостоверение (в правилах говорится про удостоверение журналиста). Редакционное задание, аккредитация, какие-то другие формы согласований и разрешений не нужны, согласно правилам. Если их требуют у вас, это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста и ограничение профессиональных прав. |
| 3. Что за отличительные знаки должен иметь при себе журналист?
Один, ТОЛЬКО ОДИН из трёх атрибутов с надписью PRESS — жилет, нарукавная повязка, наклейка.
|
| 4. Что такое оперативный пресс-центр и зачем он нужен?
Для удобства журналистов местные органы власти организуют площадку для проведения брифингов, интервью и т. д. Это называется Оперативный пресс-центр. Он создается:
|
| 5. В какие сроки редакции СМИ должны отправить запрос об организации пресс-центра в день проведения мирного собрания?
Запрос средств массовой информации направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания, в произвольной форме с указанием количества журналистов. |
| 6. Как обозначается площадка Оперативного пресс-центра?
Площадка ограничивается лентой. При этом обеспечивается достаточная видимость для фото-, видеосъёмки и получения интервью. Должно быть подведено электроснабжение. Правила также говорят об обеспечении безопасности журналистов «посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае угрозы жизни и здоровью». |
| 7. Должен ли я находиться только на территории Оперативного пресс-центра?
Нет, конечно. Журналисты вправе передвигаться и работать как на территории пресс-центра, так и за его пределами. |
| 8. Будут ли представители местных госорганов на месте мирных собраний для комментариев и интервью?
Да, правила предусматривают, что для этих целей местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания. |
| 9. Как действовать, если профессиональные права журналистов во время проведения мирных собраний нарушаются?
Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, говорится в правилах. Но как это осуществить на практике? Мы просим журналистов проявлять солидарность и фиксировать факты нарушения прав других журналистов во время мирных собраний. К таким нарушениям можно отнести: запрет или препятствование интервьюированию, записи комментария, запрет на фото-, видеосъёмку и аудиозапись, требование предоставить записи, запрет на свободное передвижение журналиста за пределами пресс-центра, угрозы, задержание и доставление в полицию и т. д. После фиксации факта нарушений обращаемся с заявлениями и жалобами на действия лиц, которые препятствовали работе журналиста. |
| 10. Эти правила также действуют для блогеров, фрилансеров и гражданских журналистов?
Формально правила для журналистов и других представителей СМИ — штатных сотрудников редакций или внештатных авторов. Это также могут быть фрилансеры и гражданские журналисты, которые имеют удостоверение журналиста и ОДИН из трёх атрибутов со знаком PRESS. Блогеры также свободны находиться и осуществлять запись и фотографирование на мирных собраниях. |
Если вам нужны атрибуты со знаком PRESS — жилет, нарукавная повязка и наклейка — оставьте свою заявку здесь.