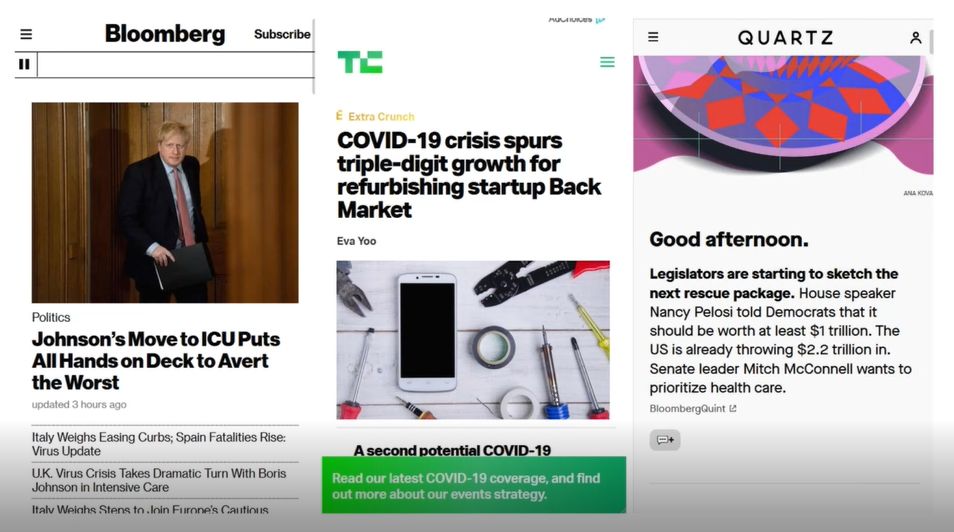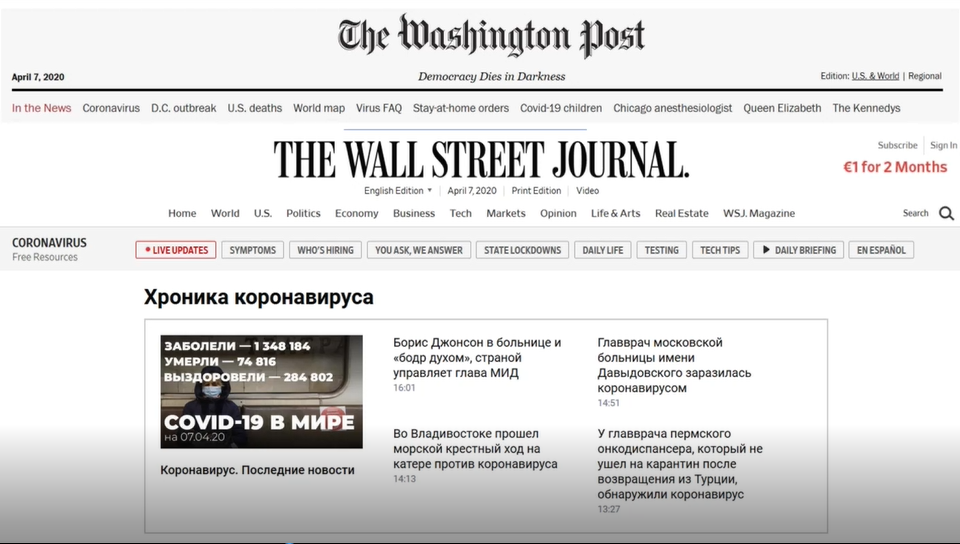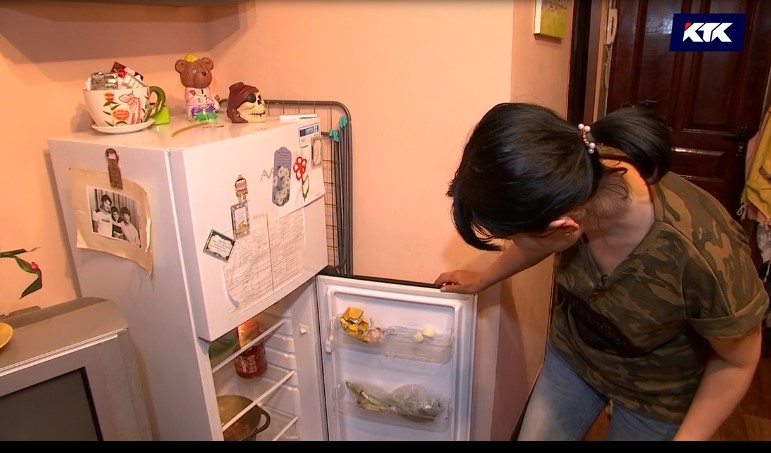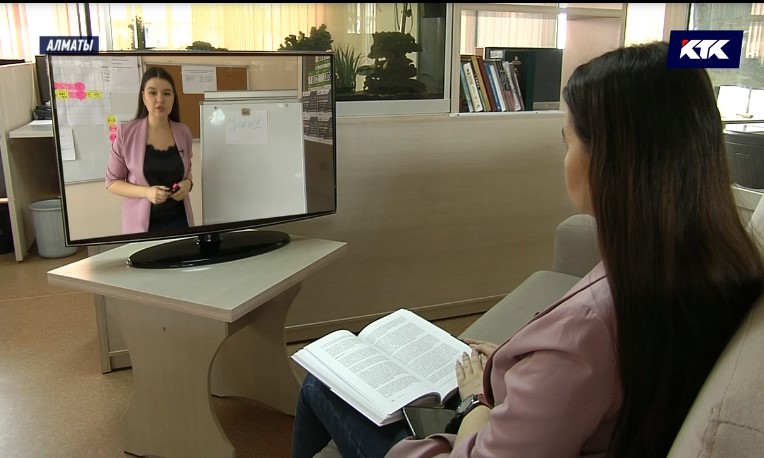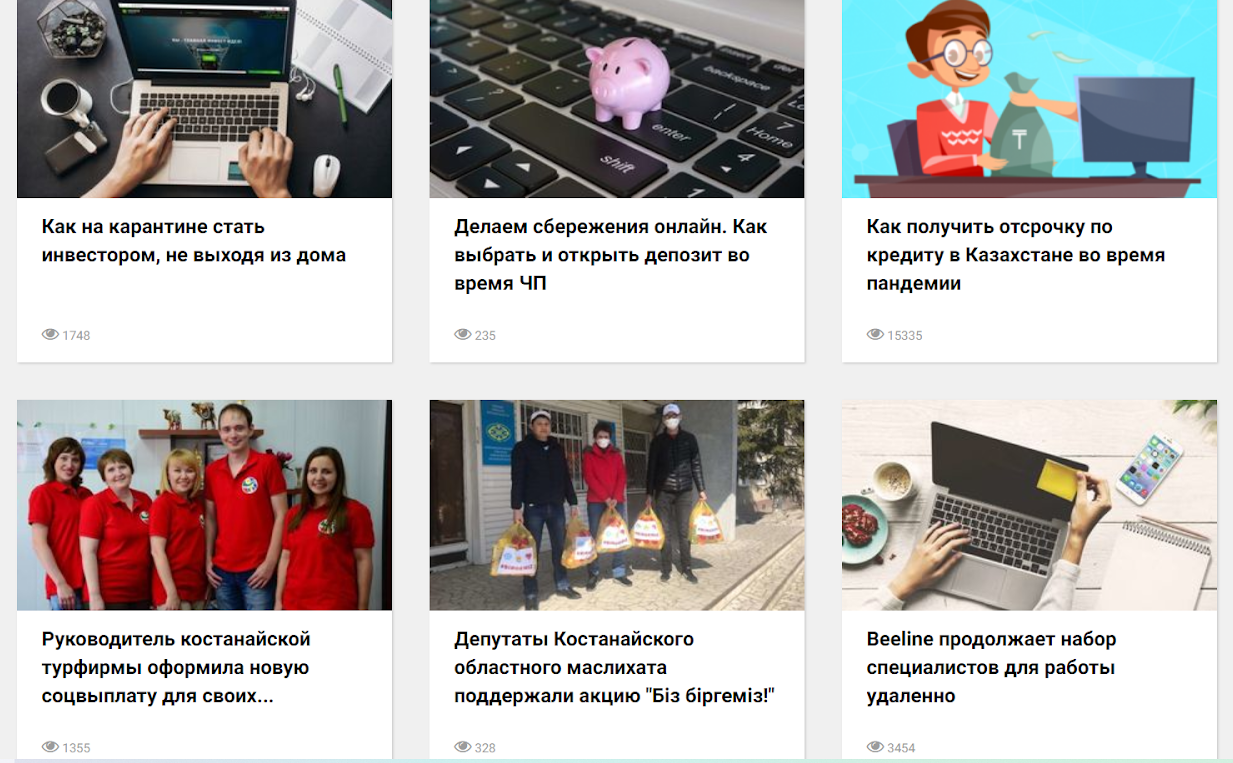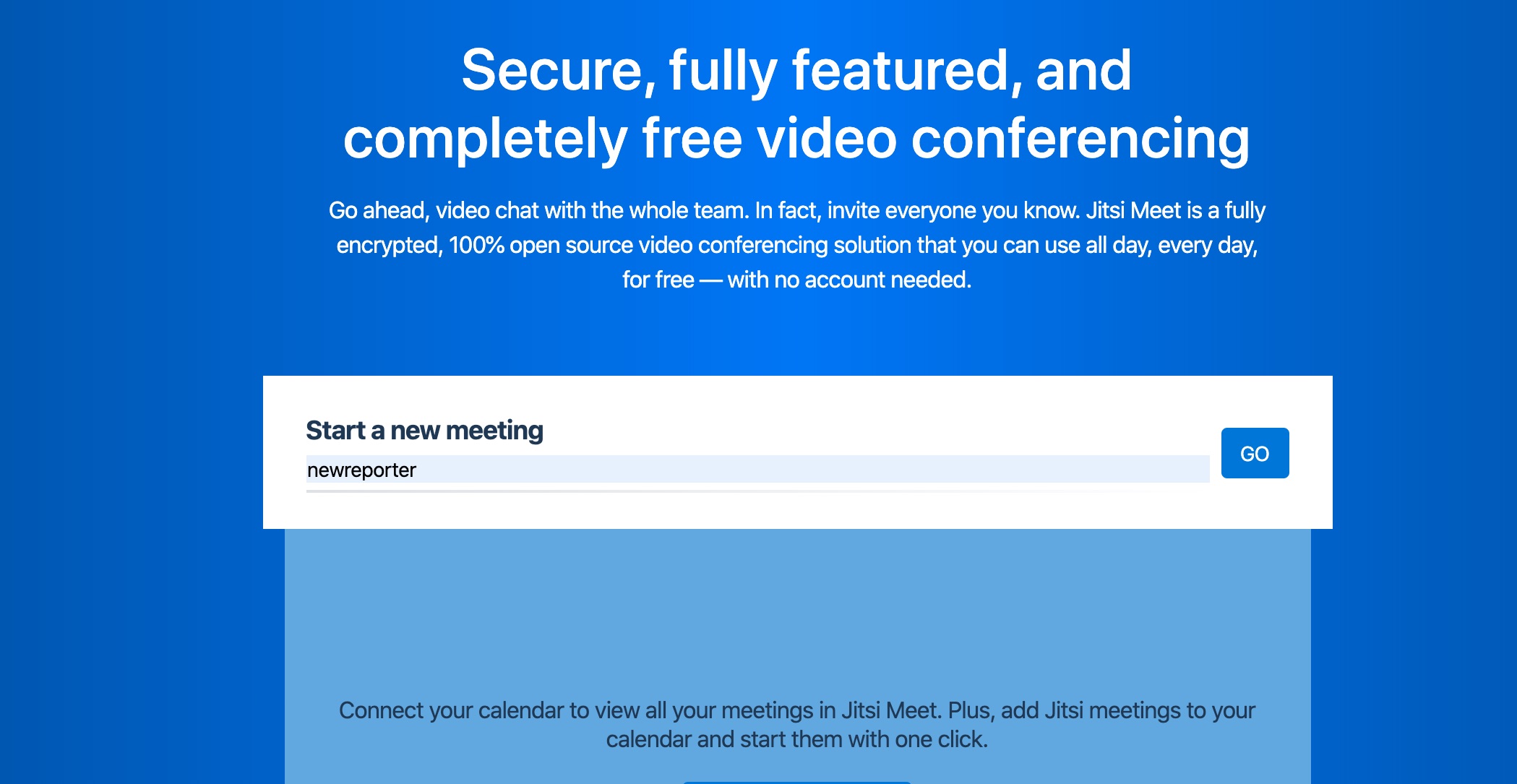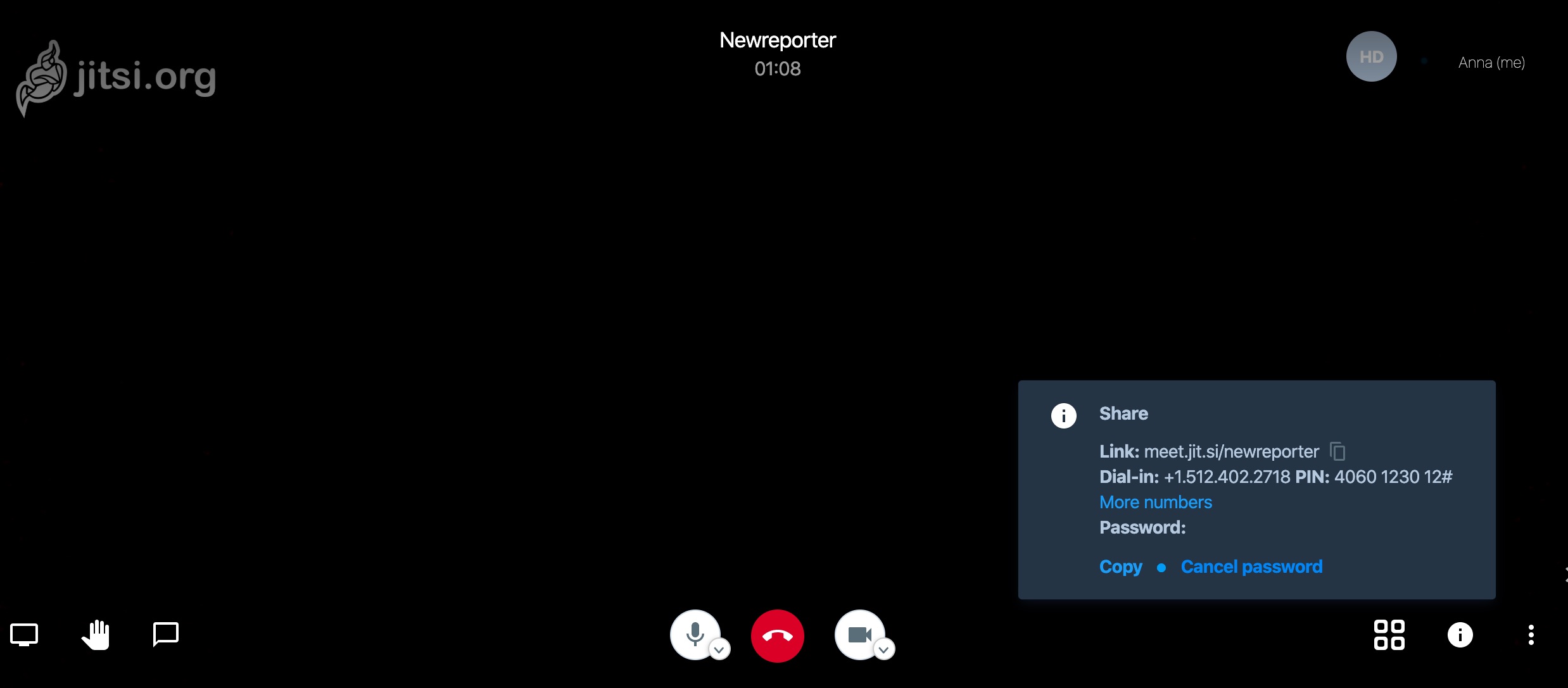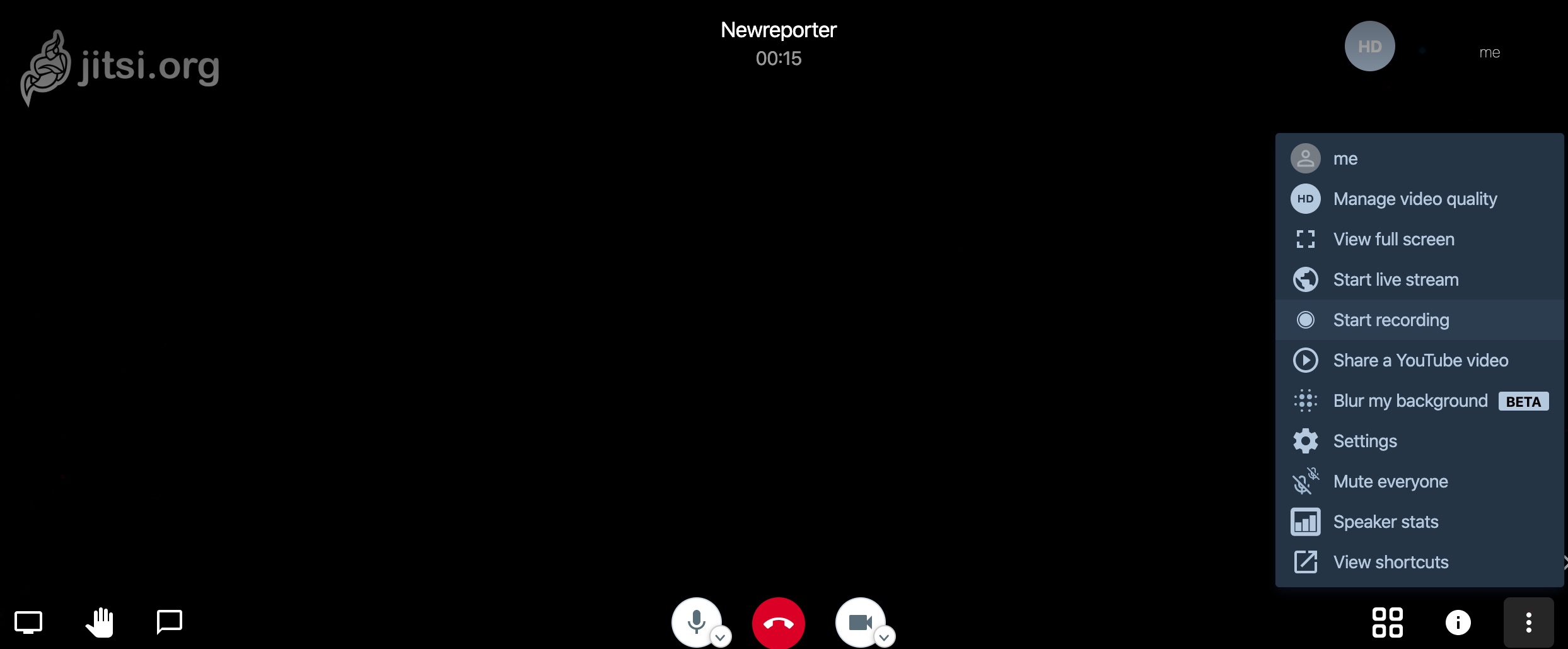«Я свой, я — пиробадец», — говорит один из жителей вымышленного города Пиробада в новой картине таджикского режиссёра Руми Шоазимова «Провинциальные мечтатели». И жители настоящего Душанбе ему верят: уж больно узнаваемые черты видят в герое.
На самом деле «Провинциальные мечтатели» — это сказка, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, оригинальный сценарий для этой картины написал Тимур Зульфикаров, который, например, был сценаристом фильма «Чёрная курица, или Подземные жители». Правда, у той мистической драмы с элементами настоящего хоррора всё-таки был свой каркас — одноименная сказка Антония Погорельского, писателя пушкинской эпохи со своим большим литературным миром, который отлично и передал сценарист. Но вы когда-нибудь видели миры писателя Зульфикарова? Казалось, они могут существовать только в его голове, книгах и воображении читателей. И вдруг совсем молодому режиссёру Руми Шоазимову удалось показать эти миры в художественном кино. И при этом не растерять в процессе переработки ни капли зульфикаровского обаяния.

Руми 27 лет, он выпускник ВГИКа. Вернувшись из Москвы в Душанбе несколько лет тому назад, он сразу приступил к свершению подвигов: на студии «Таджикфильм» снял первый таджикский нуар «Сон обезьяны», привёз в республику кучу призов за эту картину, а потом загорелся идеей снять фильм по сценарию Зульфикарова. И снял. Причём не просто снял, а ещё и выступил соавтором сценария.

«Провинциальные мечтатели» получились сказкой в двух частях, которые сначала как будто не связаны между собой, и только в счастливом конце зрители узнают, что это всё-таки один сюжет. Он начинается на завешанной белоснежным тюлем веранде старого домика, куда Рухшона-Земфира-Дуня-Сара (Рафоат Шоазимова) возвращается с красным дипломом и короткими косичками, выбивающимися из-под таджикской тюбетейки.
Красный диплом — это, конечно, хорошо, и родители рады, только вот Рухшоне-Земфире-Дуне-Саре пора подумать о замужестве, и если она не против, то отец Яхья Курбанович (Асланшах Рахматуллаев) пригласил бы в дом женихов — на смотрины. В смысле, чтобы дочка посмотрела и выбрала себе суженого. Дочка согласна, и в газете «Новости Пиробада» появляется объявление — мол, приезжайте, будем рады. И пока мама Рухшоны-Земфиры-Дуни-Сары — Фотима Ханум (Барохат Шукурова) мечтает о карьере оперной певицы и даже глотает сырые яйца перед тем, как распеться на веранде, дочь начинает грезить о том самом — единственном — и с замиранием сердца ждёт гостей. Так начинается парад женихов.

Они приезжают в дом невесты на лимузинах и внедорожниках, на мотоциклах, велосипедах и даже на лошадях. Кто-то из них нравится родителям, кто-то не очень, но никто из женихов не может быть рядом с Рухшоной-Земфирой-Дуней-Сарой. Она бы и рада, она очень старается (ведь родители свадебное платье купили на последние деньги), но диалоги не строятся и мечты не сбываются. Потому что женихи-то не настоящие.
Когда во дворе старого домика появляется «последний цыганский табор» и зовёт Рухшону-Земфиру-Дуню-Сару в далёкую Индию, невеста бежит собирать вещи. «Скучно в нашем сонном городке», — убеждает она родителей. Да, только и с цыганами уйти не удаётся.
В этой же вселенной, только в другой её части молодой учитель (Аъзам Андамбеков) прощается со своим умирающим дедом (Шерали Абдулкайсов). Дед-то умирает, только всё равно остаётся в жизни внука и выскакивает, как черт из табакерки, в самые неподходящие моменты. Внук желания деда исполняет до тех пор, пока они не становятся его собственными. И вот когда это случится, тогда и будет учителю счастье, а всем таджикистанцам — большая надежда на то, что всё обязательно будет хорошо.
«Какие же вы, пиробадцы, хорошие люди»
В том, что Рухшона-Земфира-Дуня-Сара — пусть и сказочный, но вполне себе реальный персонаж, нет никаких сомнений. Это ведь дочка, а, может быть, внучка интеллигентных сограждан Зульфикарова. В их старомодных домах хоть в Москве, где он прожил большую часть своей жизни, хоть в Душанбе, где он живёт сейчас, всё ещё сохранились высокие книжные полки, на которых, может, и найдётся томик произведений живого классика. А в нём эти девочки — как символ ушедшей эпохи, в которой сам Зульфикаров встречался с Анной Ахматовой и говорил с Борисом Пастернаком.

Эти девочки — невообразимо трогательные, наивные и искренние — существуют и в реальности; например, живут в сталинских домах старого Душанбе, и если покопаться в их родословной, то там обязательно найдутся и Рухшона, и Земфира, и Дуня с Сарой. Только вот сталинские дома в Душанбе с каждым днём исчезают под ковшами экскаваторов… И куда потом деваются семьи этих девочек со своими книжными полками, фортепиано и несбывшимися мечтами — одному Богу известно. Как будто бы вместе с домами растворяются и их интеллигентные, интернациональные хозяева. Вот и домик в центре Душанбе, в котором родился сам Зульфикаров, и который успел появиться в последних кадрах «Провинциальных мечтателей», тоже уже снесён.
«Пора уезжать», — говорит Яхья Курбанович после того, как даже цыгане оказались не теми, за кого себя выдавали. Кто не произносил эту фразу хотя бы однажды? Произносили и собирали чемоданы, потому что диалоги не складывались и мечты не сбывались. Многие действительно уезжали, кто-то оставался на чужбине навсегда, но были и те, кто так и не решился захлопнуть крышку своего чемодана. Как и родители Рухшоны-Земфиры-Дуни-Сары, которые неловко заискивают перед богатыми женихами, пытаясь им понравиться, люди с большими идеалами пытались втиснуться в непонятные для них условия. У каждого была своя веская причина изменять себе, только вот уже их дети вдруг начинали противиться обстоятельствам и напоминать родителям о том, как они сами же и учили их мечтать.

А если и не успели бы научить, то всё равно история не закончится. Предположим, учителю из второй части «Провинциальных мечтателей», который в самом начале не особенно готов был противиться обстоятельствам, досталось даже больше. У Рухшоны-Земфиры-Дуни-Сары и красный диплом, и музыкальные способности, и четырёхэтажное имя, а у учителя только нелепая шляпа, от которой одни неприятности. И персонажи вокруг: в реку выбрасывают, козлом называют, но даже он в какой-то момент всё сделал вопреки — дед со своими большими идеалами дотянулся до него через целое поколение и всё сделал так, как и мечтал.
Впрочем, кажущаяся очевидность, простота и линейность «Провинциальных мечтателей» — мнимые. Гениальность Руми Шоазимова в том, что он смог визуализировать сложный мир своего сценариста, но теперь попробуй расшифровать каждую деталь этого представления. Здесь буквально всё ходит ходуном: женихи, цыгане, врачи, многодетные семьи, арабский принц, Ходжа Насреддин с тремя жёнами и эпатажная руководительница компании «Золотая коза», увешанная дорогими украшениями. И весь этот яркий кукольный театр Карабаса-Барабаса переливается красками, танцует под музыку Икбола Завкибекова и в какой-то момент уже не даёт зрителю отличить смех от слёз. Но плакать хочется не понарошку, а потому что каждый, казалось бы, сказочный персонаж «Провинциальных мечтателей» — это живой человек, который прямо сейчас ходит по улицам и переживает свою маленькую драму. А гуманизма в картине столько, что с лихвой хватит на сочувствие даже самым отрицательным героям.

Неизвестно, пересекаются ли «Провинциальные мечтатели» с «Мечтателями» Бертолуччи в голове у авторов, но и там, и там — в центре внимания высокие идеалы. Только герои европейских «Мечтателей» в этих идеалах разочарованы, готовы от них отказаться и даже восстают против них. Но это в Париже, а в Пиробаде всё совсем по-другому: здесь молодое поколение продолжает традиции и обычаи своей семьи. Это, с одной стороны, так обыденно для Таджикистана: в конце концов, важность связи с предыдущими поколениями тут не подвергается никакому сомнению и воспевается на каждом шагу. Но, с другой стороны, об этом так много говорят, что люди забывают, что это значит на самом деле.
«Провинциальные мечтатели» об этом ненавязчиво напоминают, и главные герои в своей искренности и наивности не воспринимаются тут как осколки прошлого, а органично вливаются в современную жизнь, продолжают следовать за идеалами, как их и учили. Правда, происходит это не потому, что судьба, а потому что они сами так решили. И под желанием героев проглядывается невероятная свобода, которая не хаос и анархия, а единственное условие для того, чтобы позволить себе в Таджикистане такую роскошь: быть тем, кто ты есть на самом деле и не предавать свои идеалы. 27-летний режиссёр и 83-летний сценарист такой роскошью обладают и теперь мечтают поделиться ею со всеми остальными.