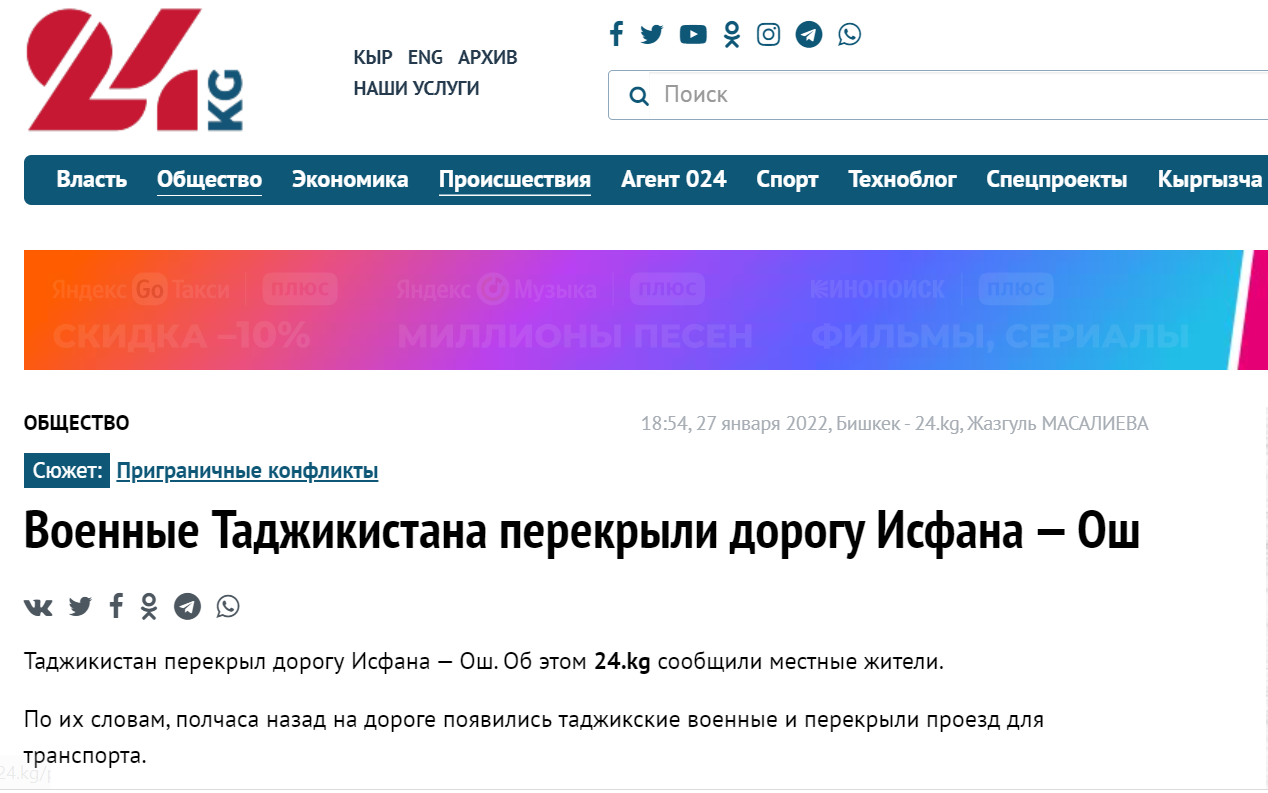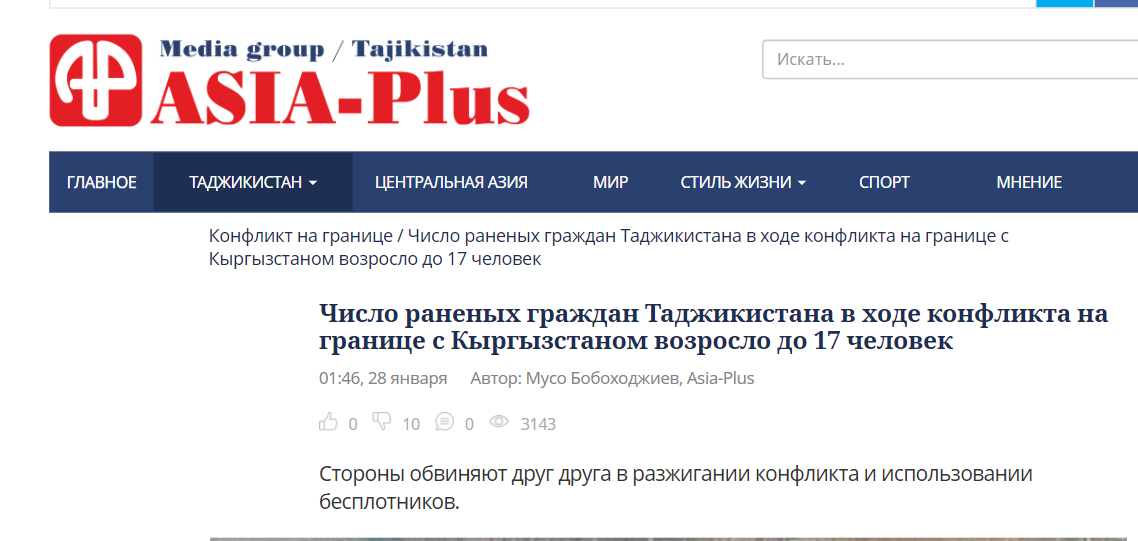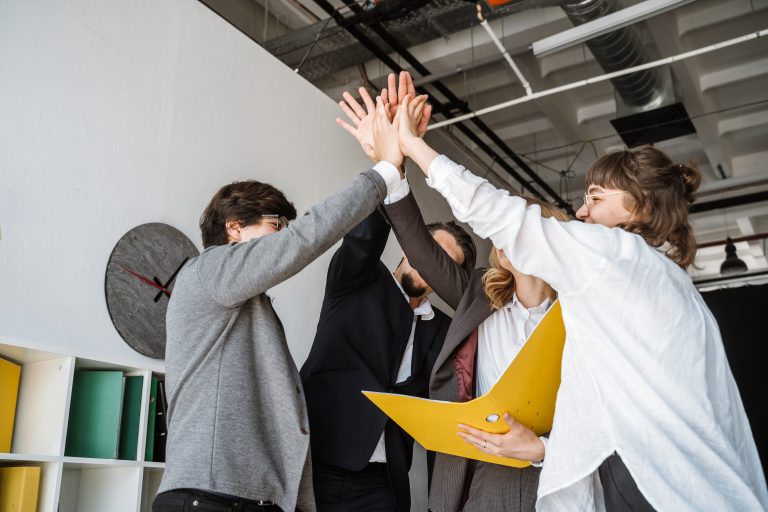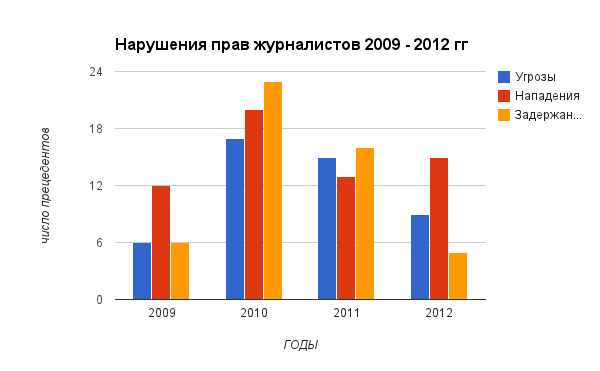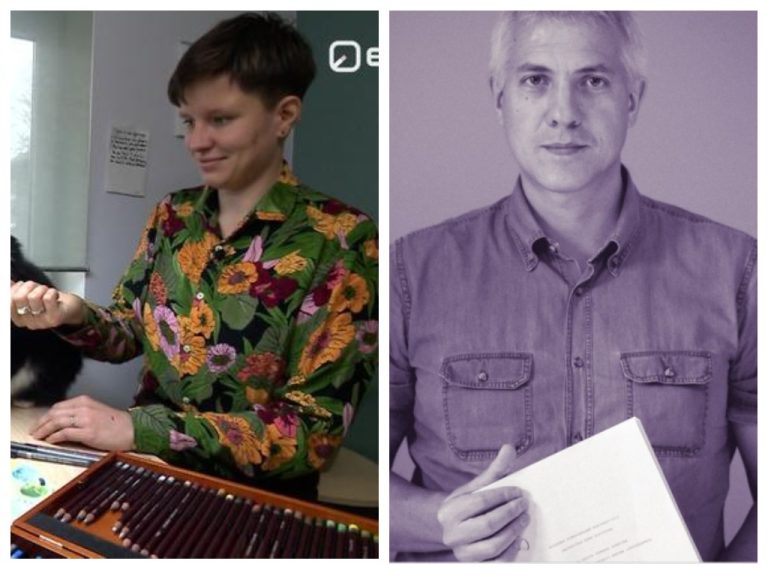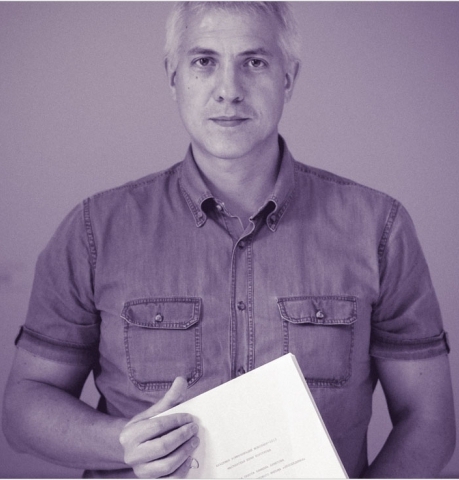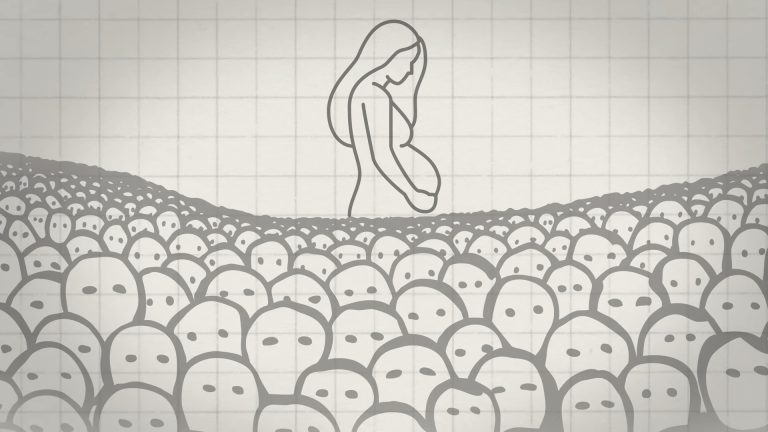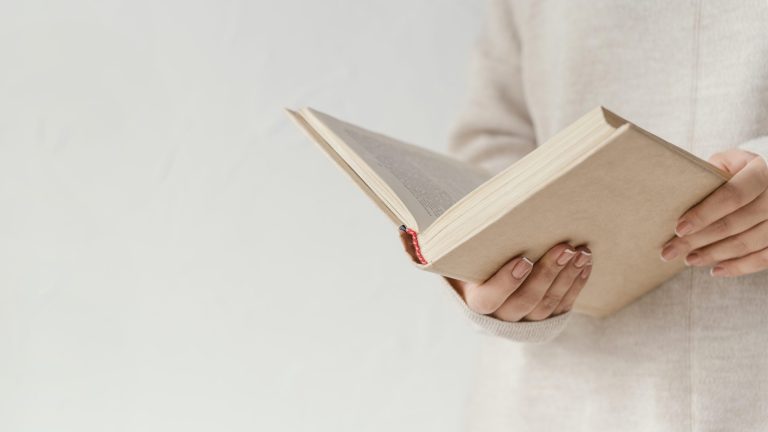Абсолютно все на этой неделе рассказали, как президент Казахстана борется с коррупцией: проводит очередное заседание на эту тему. Как он же опять поднимает вопрос частичных компенсаций за аренду жилья для малоимущих. Как глава государства сменил, наконец, акима Алматы, а некоторые жители мегаполиса вышли на митинги, чтобы им разрешили самим выбирать градоначальника. Правда, все эти темы разные каналы подали по-разному. И никто не уделил должного внимания открытию Олимпиады в Пекине, зато все рассказали, как Токаев встречался с руководителем Поднебесной.
Президента Казахстана по-прежнему в информационном поле очень много. Елбасы по-прежнему в информационном поле практически нет.
«Большие новости», КТК
Программа начинается с насущного: несмотря на поручение президента, в Казахстане снова подорожали продукты. Динара Уркумбаева — «о пищевом ограблении». В подводке — знаменитые высказывания депутата Аманжана Жамалова о «гречневой икре» и «яйцах Фаберже». В материале все: производители (которые, например, опровергают заявление о «яйцах Фаберже), покупатели, представители власти. Полный, сбалансированный и хорошо выстроенный сюжет.
«Митинг против назначения нового акима Алматы разрешил новый аким Алматы», — так начинается следующий блок программы. Сравните с тем, как это подали на «Хабаре» (см. ниже). На самом деле участники митинга требовали отставки нового главы города Ерболата Досаева, а не только того, о чём сказали в «7 куне» (чтобы акимов можно было выбирать, хотя главным образом требовали этого). Интересно, что в этом небольшом сообщении его авторы заметили, что участники митинга не соблюдали антиковидные нормы.
О кадровых перестановках недели — следующий блок. И это не просто информационное сообщение. Авторы потрудились и, например, показали, как бывший спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин демонстрирует: он в некоторых вопросах разбирается лучше, чем приходившие в парламент министры. А также дали отрывок речи, в котором Нигматуллин благодарит Елбасы (правда, он тут же благодарит и Токаева). Вообще, в отличие от «Хабара», на КТК не просто перечисляют, кто и какой пост занял, а дают по каждому новому чиновнику справку — что раньше делал, чем известен: вот, оказывается, новый аким Алматы Досаев засветился в списках самых богатых людей страны по версии Forbes.
Следующий блок посвящён «январской трагедии». «В распоряжении КТК оказались новые, эксклюзивные кадры», — говорит ведущий Алексей Рыблов, и нам показывают в принципе всё те же кадры с бегущими людьми, только в хорошем качестве и снятые с дрона. Плюс есть видео, как погромщики врываются в здание акимата, и как избивают и унижают полицейских. А ещё есть кадры с камер музея, как некие люди со скрытыми лицами в разгар беспорядков усердно молятся.
Следующий блок начинается не с того, что началась Олимпиада, а с того, что Токаев встретился с главой Китая. Очень нетипично для КТК. Да, собственно, про открытие Зимних игр и не сказали ничего, и этот кусочек про президента смотрится в «Больших новостях» спущенным сверху чужеродным элементом.
Только 70 тысяч семей могут получить помощь от государства в аренде жилья — это тема следующего блока. Как получить помощь от государства? Рассказывает в своём сюжете Зарина Ахметжанова, материал полный и исчерпывающий. Важно: рассказали и о семьях, которые очень нуждаются, но… не подходят под условия льготной программы.
«В Казахстане появится не меньше пяти филиалов престижных зарубежных университетов», — это тема заключительного сюжета выпуска «Больших новостей». «Не Гарвард, конечно, но и Петропавловск — не Бостон», — говорит Алексей Рыблов об открытии одного из филиалов. Однако в ближайшее время самыми востребованными профессиями останутся бухгалтер, охранник, продавец и водитель, тогда как Казахстан делает ставку на технические специальности. Интересный и полный сюжет Ирины Криштоп на под названием «Почему вуз и ныне там» о том, кто и почему и по каким программам сейчас учится за рубежом, а потом, может быть, сможет учиться в Казахстане.
«7 кун», «Хабар»
Программа началась не с президента, а с открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине. Хотя нет, глава государства в этой информации появился примерно в третьем предложении — он приветствовал нашу сборную на открытии. «Он прибыл в Пекин по личному приглашению председателя Китайской народной республики», — с гордостью подчёркивает ведущий. Ну и дальше — о том, с кем в столице Поднебесной Токаев встречался.
Первый сюжет — конечно, опять о Касым-Жомарте Кемелевиче, который провёл большое совещание по коррупции. Из текста Айгуль Амантаевой мы узнаём, что система субсидирования сельского хозяйства имеет «насквозь порочную» систему распределения господдержки и «давно стала притчей во языцех». Материал начинается с профиля фермера из СКО, и это уже несколько неожиданно и хорошо, обычно такие сюжеты стартуют сразу с пересказа слов президента и только их и содержат. В тексте много фразеологизмов и почти совсем нет канцелярита, что тоже огромный плюс. Ещё в сюжете есть блиц-опрос людей, которые рассуждают о том, почему в Казахстане так много коррупционеров, что тоже очень оживляет материал.
Анна Абрамова сделала материал о том, что в Казахстане очень плохо обстоят дела с сёлами, он называется «Мы его теряем» (его — видимо, село) — после очень внятной подводки Александра Трухачёва о том, как коррупция напрямую влияет на исчезновение этих самых сёл. Сюжет также начинается с профиля парня, который уехал из села в большой город и работает дизайнером интерьера, на малую Родину возвращаться не планирует. Сюжет написан хорошим языком, в нём много историй простых людей, подняты очень многие действительно важные проблемы села.
Далее на «Хабаре» рассказали о субботнем митинге, который прошёл в Алматы — его участники обратились к новому акиму города Ерболату Досаеву с требованием сделать должность акима выборной (хотя на самом деле они требовали и его отставки, о чём, во всяком случае, сообщили журналисты КТК, см. выше). Но в «7 куне» редко рассказывают о митингах, а тут рассказали, так что и нам том спасибо. В целом в этом блоке поведали про все новые назначения недели.
Елена Устимович в своём сюжете рассказала о промежуточных результатах уголовных дел, заведённых по факту январских событий в Казахстане: докладывали Генпрокуратура и МВД. Много цифр, любительского видео и видео с камер слежения. Политолог Жанар Тулиндинова — один из спикеров сюжета, автор интерпретирует её слова так, что пытки задержанных — просто следствие «эмоциональной реакции» полицейских на всё произошедшее, и таким образом политолог как бы оправдывает их противоправные действия. Мнение хоть кого-нибудь, кто прокомментировал бы этот комментарий, «Хабар» не приводит. Как не было информации и про то, заведено ли хоть одно уголовное дело хоть на одного правоохранителя, уличённого в пытках.
Следующий сюжет препарирует «символ коррупции» Astana LRT и называется «Снести или достроить?». Авторы опрашивают экспертов — урбаниста и архитектора казахстанского, урбанистов зарубежных.
Сюжет Кунсаи Курмет — о том, как будет работать помощь государства тем, кто стоит в очереди на субсидирование арендного жилья. Информационный повод — опять поручение Токаева. Есть истории героев, комментарии чиновников, хороший текст написан нормальным языком.
Следующий материал посвящён будущему закону «О банкротстве физических лиц». То есть тех, кто взял кредит, а потом не смог по нему платить. «Это не всегда заложники своей безответственности», — проявляют понимание авторы программы и предлагают сюжет Динары Жанбатыровой, которая рассказывает, как это всё устроено за границей, и как может быть у нас. Первый герой — пенсионер из России, он рассказал, как стал «физическим банкротом». Словом, хороший внятный разбор, что называется, «на пальцах».
И последний сюжет посвящён пресловутому утильсбору — в сюжете (не без Токаева, естественно, но чётко) рассказано всё, «что известно на этот час».
«Грани», «Первый канал Евразия»
В первом сюжете программы зрителям достаточно честно рассказали про смену городского руководителя в Алматы. Были упомянуты и показаны в кадре петиции и против снятого, и против назначенного акима. Журналисты записали мнения политолога Максата Жакауова и гражданского активиста Даулета Абилкасимова. Далее перешли к теме возмещения ущерба МСБ, показав продавца детской одежды и члена общественной комиссии «Аманат». В целом вышел взвешенный сюжет с балансом мнений. Также показали новые кадры январской трагедии.
Далее — блок на тему оружия. Журналист Светлана Пенькова перекинула мостик от ограбления оружейных магазинов в дни событий к тому, как кустарно переделывают оружие у нас в стране и как легко, на её взгляд, получить разрешение на это самое оружие. В этих материалах также всё в порядке с балансом мнений: есть и глава Оружейной ассоциации «Корамсак», и замначальника управления административной полиции города Алматы, и депутат Сената парламента РК, и охотник, и психиатр, и киноцитата из «Брата».
Следующий сюжет посвящён теме возможной отмены техосмотра в Казахстане. Редакция «Граней» в своем любимом стиле с применением компьютерной графики закатила старые ржавые «Жигули», которые уже за кадром взорвались, а по полу студии прокатилось отвалившееся колесо. «Процедура не то что стала формальной, а полностью себя дискредитировала. Поэтому техосмотр предложили отменить», — говорит журналист Бахром Абдуллаев и далее собирает мнения по этому поводу (в основном против). Показаны и владельцы станций техосмотра, и автолюбитель, и представитель госорганизации. Также журналист в эфире звонит умельцам, которые предлагают пройти техосмотр онлайн. Вышло довольно живо.
Почти 16 минут экранного времени отвели постоянной рубрике «Грани закона». На этот раз в фокусе внимания — высокие цены и коррупция. В сюжете показали ту самую цитату Аманжана Жамалова «Пора переименовывать гречневую крупу в гречневую икру», также материал украсил стендап: Алибек Рзабаев пришёл в теплицу и, повествуя о том, какие налоговые преференции даются теплицам за рубежом, поднялся по лестнице.
Очень коротко, пунктирно, буквально на 1 минуту 22 секунды зрителям рассказали про старт белой Олимпиады в Пекине. Упомянули Токаева на открытии, восторг от формы и всё…
Финальный сюжет называется «Мелодии из Казахстана в мировом прокате». Корреспондент Айгерим Муздыбаева поговорила с музыкантами, чьи произведения стали популярными в соцсетях и востребованными у голливудских продюсеров. Пожалуй, самое ценное — искренние эмоции простых казахстанцев, которые тем или иным образом получили признание. Например, улыбку вызывает, когда парень, рассказывая, что начал писать музыку, когда его бросила девушка, говорит: «Наверное, ты увидишь меня по телевизору. Спасибо, что ты меня бросила».
Apta, QAZAQSTAN
Apta началась с информации о рабочей поездке президента РК в КНР. И тут же упомянули, что ездил он в том числе на открытие зимних Олимпийских игр, после которого состоялись переговоры с председателем Поднебесной. Этому событию посвятили короткий протокольный сюжет, показавший, как именно прошла рабочая поездка президента, а также открытие Олимпиады.
Далее — опять Токаев и его совещание по вопросам противодействия коррупции (сообщение с длинным синхроном президента). Затем ведущая рассказала о материале портала Orda.kz, где говорится, что КТЖ досрочно расторг контракт с компанией Алии Назарбаевой, и показали скрин с Facebook, где один пользователь удивляется: цена на железнодорожный билет снизилась. А сюжет был посвящён «теме монополии, олигополии, картелей». В материале объяснили значение этих терминов с комментариями представителей профильного департамента, ассоциации, экономистов. Хороший объяснительный сюжет, но не было названо ни одно из имён в качестве представителей тех самых монополий, олигополий и картелей.
Токаев на совещании по вопросам противодействия коррупции говорил и о коррупции в сфере субсидирования сельского хозяйства. Тему продолжили в рубрике «Apta қонағы». Гостем стал Алмасбек Садырбаев, председатель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана Shopan-ata. Он подробно рассказал о схеме коррупции в субсидировании сельского хозяйства, о трудностях получения субсидий для простых крестьян, о массовом падеже скота из-за засухи в ЗКО, о лобби в сфере сельского хозяйства.
Второй сюжет посвящён теме возмещения арендной платы для малообеспеченных семей, которые стоят в очереди на жильё. Большой сюжет, объясняющий, что это за социальная программа. Есть истории героев и комментарии экономиста, говорящего о рисках этой программы.
Apta продолжает рассказывать о пытках кратко, то есть без сюжета. В этот раз ведущая Жайна Сламбек, рассказывая о сообщениях про пытки, привела цитату из поста на Facebook председателя общественной комиссии «Аманат», адвоката Абзала Куспана. Адвокат написал об Азамате Батырбаеве, его во время следствия избили и жгли горячим утюгом.
Далее коротко рассказали о митинге, который прошёл в Алматы, и о требованиях его участников.
Перезапуск программы льготного автокредитования под 4 % стал поводом для третьего сюжета. Есть герои, материал затрагивает проблемы авторынка страны и рассказывает о минусах кредитования.
В селе Ахмет Костанайской области, где родился Ахмет Байтурсынов, нет дорог, слабый интернет. Местные жители просят положить асфальт, решить проблемы со связью. Этой проблеме посвящён заключительный сюжет Apta. После него показали отрывок из сериала «Ахмет. Ұлт ұстазы».
Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.