Новый телевизионный сезон по традиции радует зрителей не только остросоциальными ток-шоу и грандиозными смотрами самодеятельности, но и долгожданными мыльными операми. География последних с каждым годом поражает всё больше, но особого внимания заслуживают, конечно, продукты собственного производства. Казахстанские сериалы так отчаянно то ли воспитывают, то ли развлекают аудиторию, что мало кого оставят равнодушными и в этот раз.
«Он же Гога, он же Гоша» по-казахстански
Телеканал «Хабар», следуя своему предназначению, осенью выпустил многосерийную спортивную драму «Көкжал». Творение отечественных сценаристов и режиссёров призвано воспитать в подрастающем поколении присущую спортсменам силу духа. Чтобы зрители точно ощутили воспитательный эффект, главный герой сериала — 16-летний Ербол — с первых минут экранного времени подвергается беспощадной (и во многом бессмысленной) критике. Авторитетные взрослые клянут подростка на чём свет стоит и с завидным постоянством ставят на нём и его будущем крест.
Школьник, помимо этого страдая от буллинга и вымогательств, успевает демонстрировать лучшие подростковые качества — не пасует перед хулиганами, тешит себя надеждой стать врачом и даже бывает откровенен со строгим отцом. Награда настигает парня при не самых приятных обстоятельствах: групповое избиение прерывается вмешательством соседа Ербола, который, как Гоша из фильма «Москва слезам не верит», решает немедленно обнажить всю несправедливость ситуации. Отвесив каждому из пятерых нападавших всего по одному (!) могучему удару, седовласый мужчина фактически спасает подростка от непоправимого вреда здоровью.

Герой, внешне смахивающий на аксакала, по счастливой случайности оказывается бывшим чемпионом по смешанным единоборствам и как наставник берётся учить парня элементам кроссфита и искусству бокса. Кроме этого, Темирхан-ага присваивает себе монополию на роль морального ориентира в жизни начинающего бойца и уж больно обижается на стремление ученика победить противника любой ценой. Интриги вокруг личности главного антагониста, к слову, нет и в помине. Шанс распознать злодея на первых минутах первой серии дали даже самым невнимательным зрителям — для того, чтобы мы взглянули в его жестокие глаза, авторы использовали пресловутый slow motion.
Ещё более незамысловатым способом создатели драмы указали на будущую возлюбленную главного героя: когда взгляды девятиклассников встретились, на фоне прозвучали несколько аккордов какой-то лирической композиции. Недоступная (ну разумеется!) красавица при этом и скромна, и милосердна, и покладиста, но — увы — слаба характером. По договорённости родителей Айша выходит замуж за того самого злодея, чтобы уже в браке страдать от его побоев и самодурства. Классическим образом в этой истории выписан и образ дурной свекрови, которой и чай слишком тёплый, и баурсаки жесткие, и невестка криворукая.
Надо сказать, авторы сериала так увлеклись высвечиванием подобных стереотипов, что лишили зрителей малейшей возможности посочувствовать героине. Казалось бы, только соберёшься осудить свекровь за излишнюю подозрительность, гневливый супруг начинает отчитывать девушку за отсутствие наследников. Только подумаешь про абсурд происходящего, как мужчина уже грозится запретить жене выходить из дома, отказывает в деньгах, а свекровь поносит сватов. Тот же эффект легко достигается беглым просмотром новостной ленты, в которой даже известия о произволе врачей роддома уже не сильно трогают. Кстати, собственно журналистика в сериале тоже осуждается: несовместима с семейной жизнью, твердят поборники традиционных скреп.

Но обратимся напоследок к главной теме сериала — спорту. С одной стороны, показанные в одной из серий документальные кадры первых в Алматы боёв без правил на арене цирка подкупают. Связь между вымышленными персонажами настоящего и реальными героями прошлого делает повествование объёмнее и красочнее. С другой стороны, невнимание к деталям откровенно удивляет. В победном бое Ербола внезапно обнаруживается седьмой раунд, тогда как даже титульные поединки в MMA состоят, как правило, всего из пяти. Вдобавок к этому на груди у чемпиона виднеется стилизованное изображение волчьей морды, которая недвусмысленно отсылает к эмблеме недавно расформированного боксёрского клуба Astana Arlans. Странно, что те, кто нашли время для поиска архивного видео, решили пренебречь великими возможностями Википедии.
Запертые в себе
Название нового сериала телеканала КТК — «Жат туыстар» («Чужие близкие») — обманчиво намекает на мелодраматический характер фильма. В действительности авторы многосерийной драмы поместили своих персонажей в рамки классической детективной истории. Настолько классической, что сама Агата Кристи поняла бы мотивы своих коллег по писательскому ремеслу. Сюжет завязывается вокруг смерти одного «доброго и щедрого» богача, чьё завещание становится единственным, что интересует всю съехавшуюся на похороны в село родню. Убранство дома покойного отца семейства напоминает творение отечественных мастеров барокко, черпающих вдохновение в «Армаде». Загородная вилла и становится главным местом действия, обрамляя своими золочёными рамами незатейливые профили главных героев.
Драматургический конфликт основан на давнем противостоянии двух братьев. Сценаристам мало было наделить их разными характерами: мужчин сделали идеологическими противниками. Первый — типичный казахстанский чиновник, занимающий не первое, но и далеко не последнее место в бюрократической иерархии. С удовольствием «решает проблемы» бизнесменов за бильярдом после сауны и показательно по телефону отстаивает интересы народа, запрещая застройку парковой зоны. Умиляет, что двуличному слуге народа при этом не чужда саморефлексия, которая успешно купируется правильными женскими словами.

Второй — не менее типичный представитель творческой интеллигенции, директор успешной радиостанции. Успешность, по замыслу создателей сериала, в этом случае измеряется количеством и разнообразием шейных платков, длиной ног любовницы и наличием откидывающейся крыши у машины.
Галерею карикатурных персонажей дополняют окружающие братьев близкие и прислуга хозяйского дома. Каждый герой, как водится, немного переигрывает, но таковы законы жанра: уж если персонажи не имеют возможности эволюционировать с помощью внешних обстоятельств, им остаётся заполнять пустоты исключительно собой. Так, на экране среди прочих женщина на сносях, симулирующая нездоровье ради еды; её супруг, ухлёстывающий за симпатичной дочкой поварихи; балованная столичная фифа, мнящая себя великой соблазнительницей и многообещающим сыщиком; престарелая нянька, выступающая в роли хранительницы давно развалившегося очага и моральных устоев.
Отличился даже страж порядка, ведущий расследование загадочного отравления нотариуса, которое случилось в самый день похорон — аккурат перед оглашением последней воли усопшего. Провинциальный детектив с оленьим взглядом и подстриженной по последним городским канонам бородкой профессионально разжигает страсти между главными действующими лицами, с которых предварительно взял подписку о невыезде.
Однако казахстанский сериал не был бы таковым, если бы сценаристы не сделали реверанс в сторону традиционных ценностей — на фоне корыстных героев рассуждать об уважении, достоинстве и скромности становится как будто даже легче. Масла в огонь и без того пылающих устоев добавляет насквозь пропитанная любовными интрижками атмосфера.

Глаза главных героев то и дело вспыхивают от голого мужского торса, ревности, воспоминаний былых утех или подаренной любимым безделушки. Создатели обещают ещё и постельные сцены, что в общем-то вполне ожидаемо — раз уж растянули историю аж на 70 серий, будьте готовы к тому, что рано или поздно зрителям надоест наблюдать за утрированными образчиками нашего общества, бесцельно слоняющимися по дому.
Однако, думается, аудитории ещё долго не наскучит наблюдать за заковыристыми попытками телеканалов привлечь внимание к своему сериальному продукту. Пока в меню два основных блюда — воспитательно-патриотичное и игровое кино. Благо, разница между ними столь очевидна, что зачастую знакомства с синопсисом вполне достаточно, чтобы сделать выбор. Несмотря на то, что у каждого «лакомства» свой рецепт, ингредиенты особо выбирать не приходится: три актёра, например, поучаствовали сразу в обоих проектах. Причём бандита, устраивающего подпольные бои без правил, из первого удалось идентифицировать во втором по перстню на руке радийного начальника. Так и в отечественной сериальной индустрии: каждый выдаёт за драгоценности одни и те же знакомые всем камни.
Все использованные иллюстрации — скриншоты с официальных аккаунтов телеканалов на YouTube.








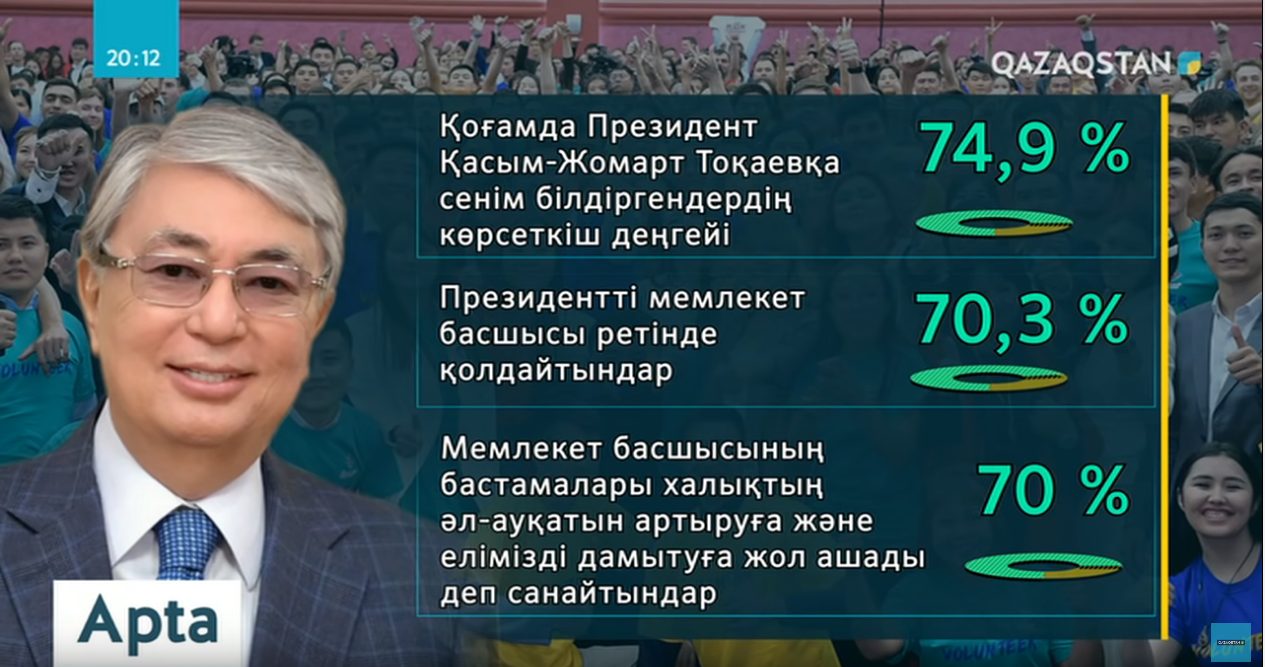
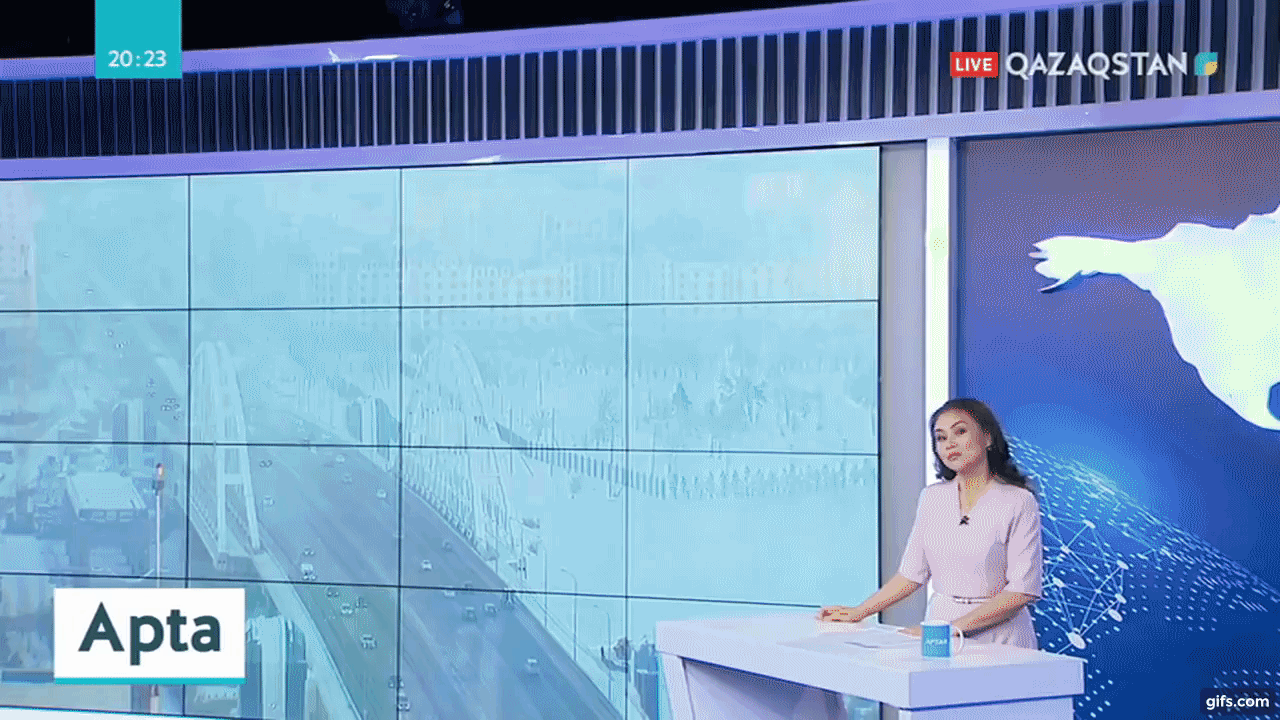









 Считается, что дети с синдром всегда добрые и любят обниматься — это так, но не всегда. Они, как и все люди, разные. Кто-то легко идёт на контакт, кто-то стесняется.
Считается, что дети с синдром всегда добрые и любят обниматься — это так, но не всегда. Они, как и все люди, разные. Кто-то легко идёт на контакт, кто-то стесняется.