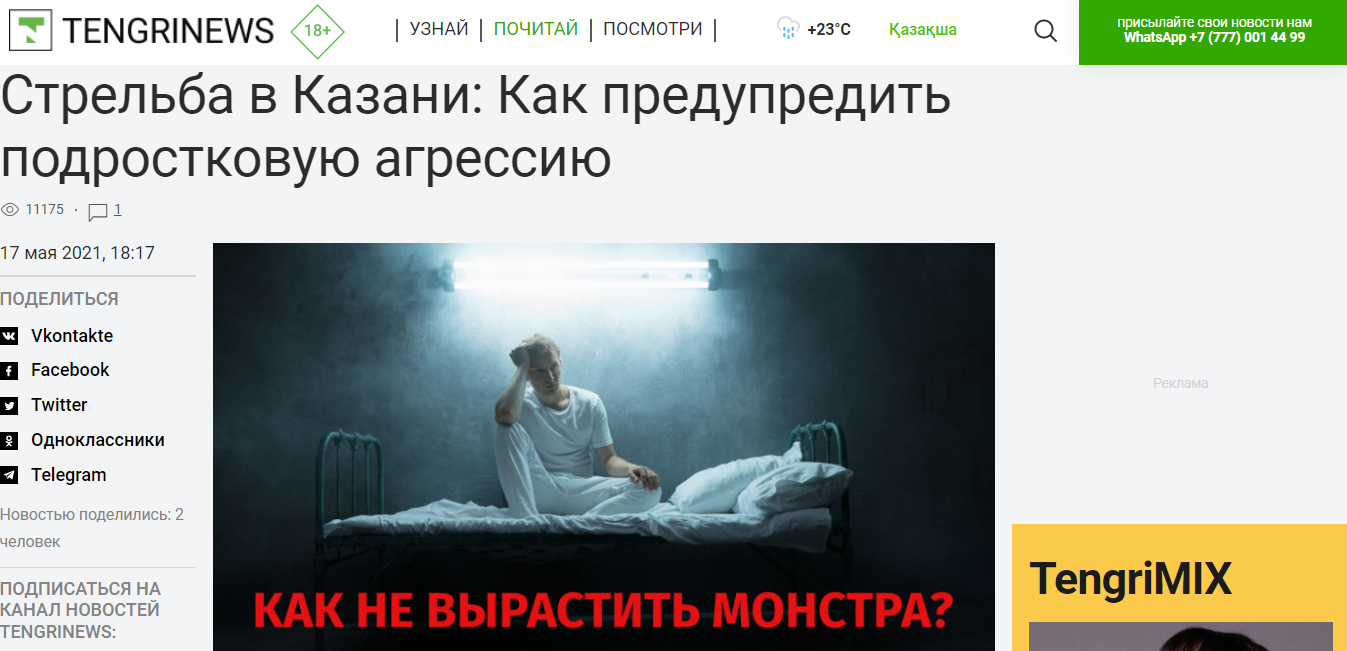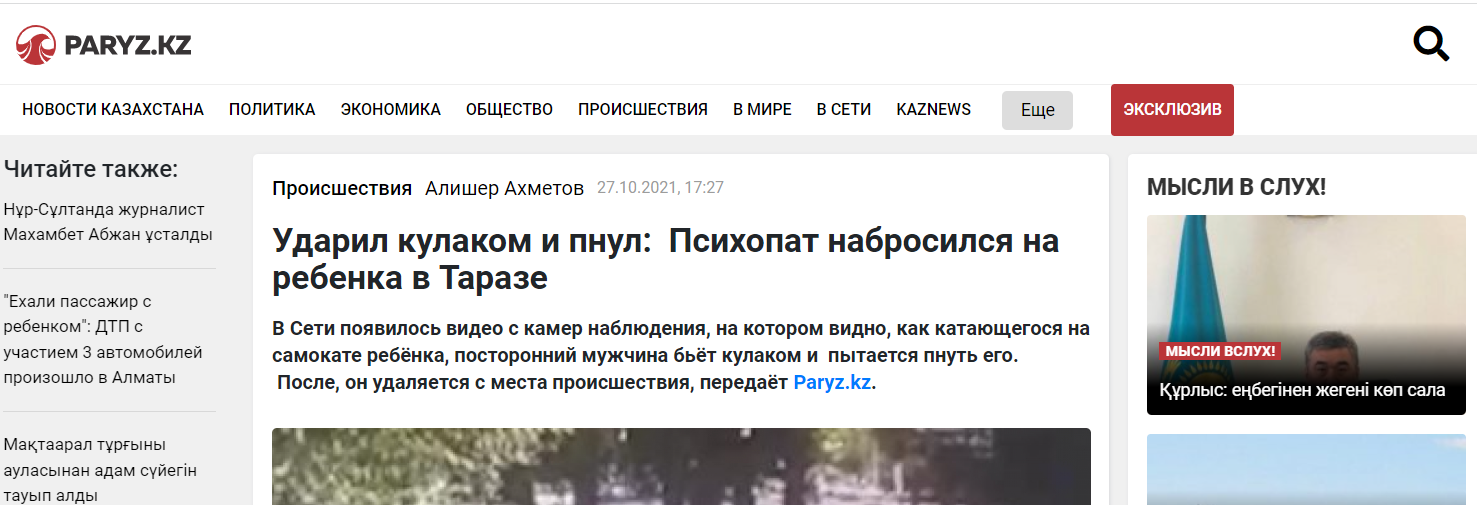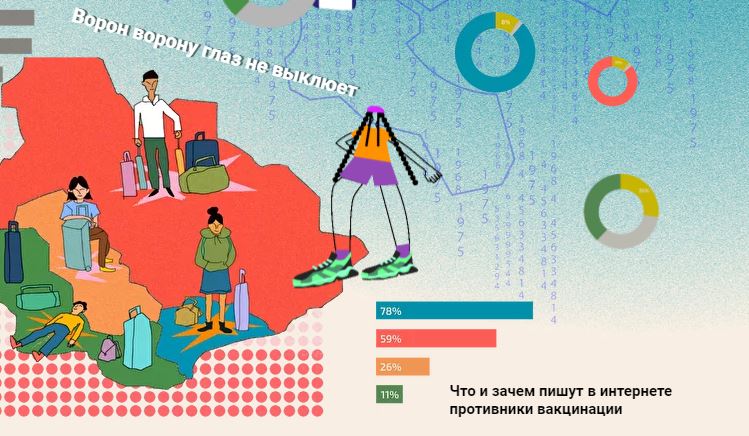При использовании любых материалов из Сети в первую очередь необходимо соблюдать авторские права, закреплённые международным правом (Бернская конвенция) и национальным законодательством (Гражданский кодекс, закон РУз «Об авторском праве и смежных правах»). Для печатных СМИ понятно, кто автор статьи: он будет указан в начале или в конце текста. Если никто не указан, то автором является редакция СМИ. Подробности — в материале медиаюриста из Узбекистана Карима Бахриева.
Можно ли использовать фотографии без разрешения автора?
Автором фотографии является фотограф. Скажем, аудио- или видеопроизведения в основном — результат коллективного труда. Авторское право защищает не только автора произведения, но и права общества пользоваться интеллектуальной собственностью.
Согласно статье 25 закона Узбекистана «Об авторском праве и смежных правах», разрешается частично копировать, просматривать или прослушивать произведение в личных целях. При этом автора об этом извещать не нужно, равно как и платить гонорар.
Есть и другие случаи, когда произведением можно пользоваться без согласия автора (статья 26 закона Узбекистана «Об авторском праве и смежных правах»). Например, учебные цели. Можно использовать произведения или их отрывки в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко-, видеозаписях учебного характера в объёме, оправданном поставленной целью. Например, в учебнике по фотожурналистике можно использовать примеры выдающихся фоторабот. Либо студент может использовать в своём докладе анализ, сделанный в статье аналитического журнала. При этом необходимо поставить ссылку.
Что надо знать при использовании фото из интернета?
Произведения фотографов и фотокорреспондентов активно используются в газетах, журналах, телепередачах, на сайтах СМИ. Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, относятся к охраняемым объектам авторского права (статья 6 закона). Следовательно, использовать их любым способом (воспроизводить в любой материальной форме, распространять, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения в интернете и т. д.) можно лишь с разрешения гражданина, творческим трудом которого она создана. При этом, соблюдая исключительное (имущественное) право автора, следует неукоснительно соблюдать и его личные неимущественные права, такие как право на обнародование произведения, право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и его защиту от искажений.
Нельзя использовать фотографию из интернета потому, что она находится в свободном доступе. Интернет — материальный носитель произведения. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражен результат интеллектуальной деятельности.
Все фотографии и иллюстрации (в том числе открытки, мотиваторы и демотиваторы, картинки) являются объектами авторского права. Даже если фотография серая, блёклая или нечёткая и на ней завален горизонт.
Нельзя использовать в СМИ фотографию, если она куплена у автора?
Можно купить конкретный экземпляр, который, как и любую законно приобретённую вещь, можно подарить, перепродать, повесить на стену и т. д. Для публикации фотографии необходимо заключить договор с автором о передаче прав на использование. Когда вы покупаете книгу из книжного магазина, вы можете читать, подарить её кому-то или даже сжечь. Но факт покупки не даёт вам право воспроизводить эту книгу без разрешения автора или издателя — ни полиграфическим способом, ни в электронном виде, ни в интернете. С фотографией тоже надо соблюдать такие же права.
Нельзя обнародовать фотографии из архива без согласия автора. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме. Обнародование — впервые сделать произведение доступным для всеобщего сведения путём опубликования, публичного показа, передачи в эфир или по кабелю или иным способом, в том числе и в интернете. Если автор жив, это право принадлежит только ему. Не обнародованное при жизни автора произведение, в том числе и видео-, аудио- или фото, можно обнародовать только с согласия правообладателя и при условии, если это не будет противоречить воле автора, выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т. д.).
Нельзя свободно использовать фотографию, если не указаны автор и название. Право признаваться автором произведения возникает в силу создания произведения и не требует регистрации или соблюдения каких-либо иных формальностей. Право на имя — это право автора использовать или разрешать использовать произведение, в том числе и фотографическое, или под своим именем, или под псевдонимом, или анонимно, то есть без указания имени. Это одно из наиболее часто нарушаемых журналистами прав, особенно при использовании фотографий в телепередачах и на сайтах.
Необходимо помнить и о том, что нарушением права на имя считается и несогласованное указание фамилии автора в отрыве от фотографии (например, в конце материала или передачи указывают в общем перечне с текстом типа «В передаче использованы фотографии того-то и того-то…»), так как это лишает читателя возможности установить, кому именно принадлежит конкретное произведение. Использование в одном интернет- или печатной статье иллюстраций из различных источников и перечень авторов в конце текста являются нарушением авторского права. Авторство и/или источник, откуда взято изображение, должны быть указаны у каждой иллюстрации, чтобы читатель точно знал, где чья фотография.
Каковы правила опубликования фотоизображения физического лица?
Фотохудожник является создателем, автором портрета, фотографии, на это уходят его время, усилия, материалы, средства. Но есть ещё и права того, кто изображён на фотографии. Не каждый согласен, чтобы его лицо было выставлено на всеобщее обозрение, на рекламном плакате или сайте, поэтому необходимо соблюдать право лица на изображение.
Согласие гражданина на использование его изображения не требуется:
- когда такое использование осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах,
- когда оно получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собрания, съезды, конференции, концерты, представления, спортивные соревнования и т. п.), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
- когда гражданин позировал за плату.
Сфотографированный человек не является автором фотографии, но у него есть другое право — право на изображение. Поэтому при использовании портретной фотографии для публикации в СМИ необходимо помнить о необходимости получить согласие не только автора изображения, но и изображённого крупным планом человека.
В каких случаях можно использовать фотографии без согласия автора?
Согласие автора не требуется:
- при использовании изображений объектов искусства, находящихся в открытых для свободного посещения местах (парки, выставки, музеи, кафе и т. п.). Однако фотография внутри фотографии не должна являться основным объектом использования или использоваться в коммерческих целях. Например, в репортаже с фотовыставки нельзя использовать крупные снимки одной фотографии.
- при перепечатке статей по текущим экономическим, политическим, социальным или религиозным вопросам либо иных произведений такого же характера — если перепечатка специально не запрещена автором.
- при цитировании.
Как лучше фотокорреспонденту защитить свои права?
Если вы увидели свою фотографию на каком-либо сайте, СМИ, баннере, буклете и хотите защитить свои авторские права, вы должны:
- проанализировать, подпадает ли снимок под случаи свободного использования фотографии;
- понять, какие авторские права были нарушены при использовании фотографии (не спросили согласие, не указали имя или указали чужое, допустили изменение фотографии);
- определить, кому предъявить претензии (редакция СМИ, администратор сайта, частная фирма и т. п.);
- направить претензию;
- если вам отказали или претензия осталась без ответа, обратиться в суд.
Может ли быть доказательством авторства надписи «пресс-служба» или «редакция»? Нет. Автором может считаться только физическое лицо. Организация (редакция) или индивидуальный предприниматель не могут быть авторами. Техническая помощь не ведёт к возникновению соавторства. Авторство не определяется принадлежностью физического носителя, на котором зафиксирована информация. Личные неимущественные авторские права неотчуждаемы, не могут быть переданы или проданы. Автор имеет право на имя, и в то же время может сам решить, хочет ли он опубликовать материал под собственным именем, под псевдонимом или анонимно.
Для признания нарушения авторского права не важно, использовалось фото в коммерческих или в других целях. При этом использование чужих фотографий в коммерческих целях является отягчающим обстоятельством, увеличивающим на практике размер суммы компенсации фотографу.