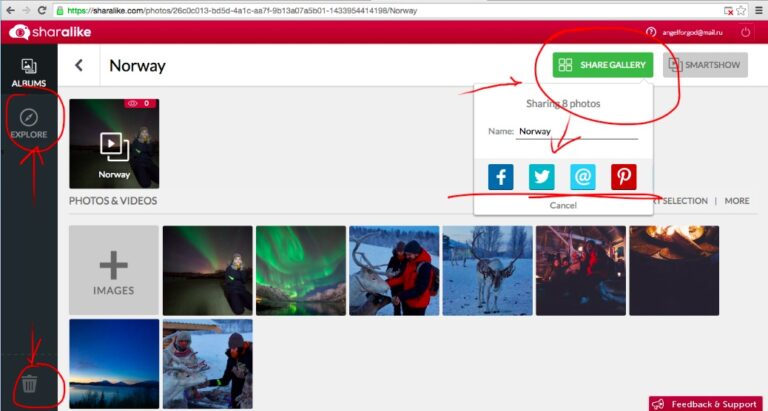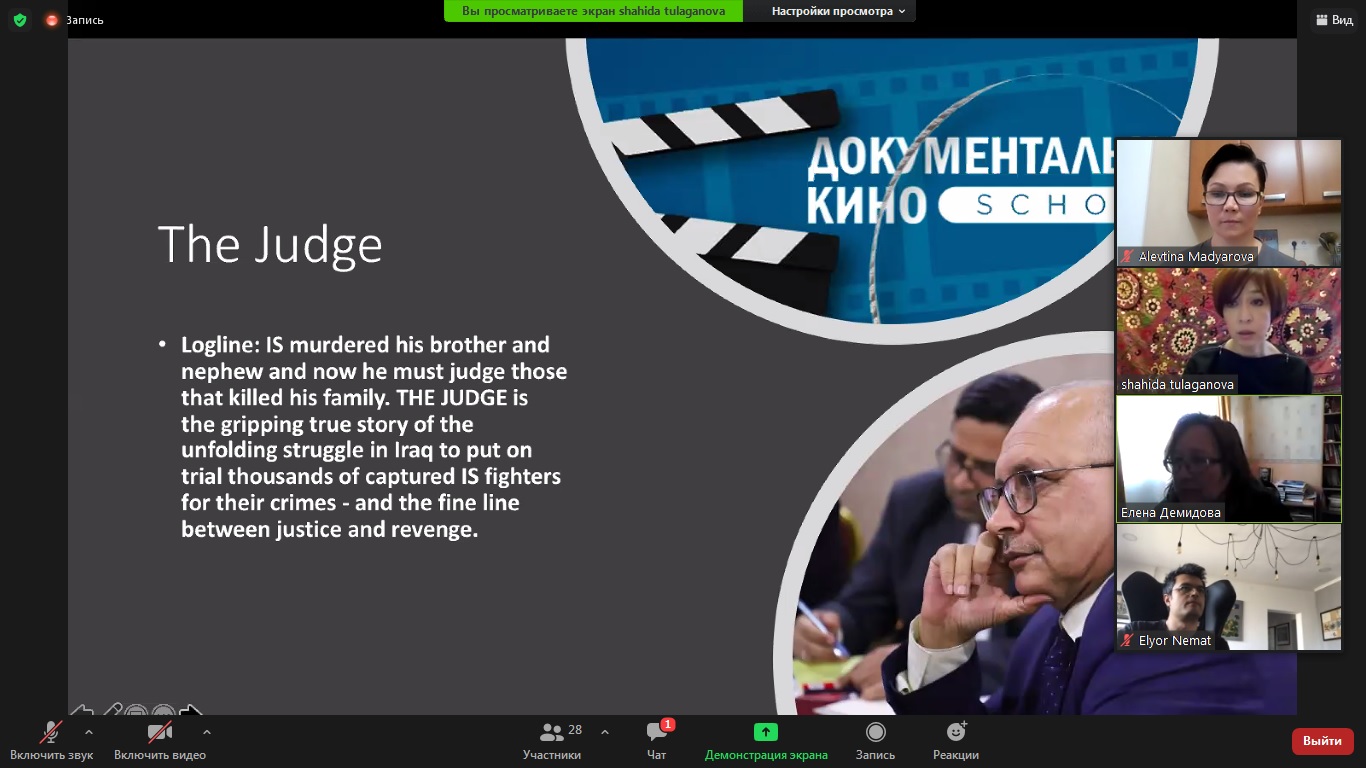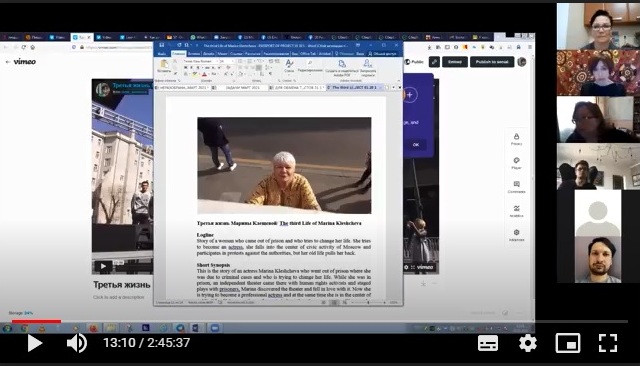Новый телеканал — всегда событие в мире медиа. Ему предшествует активная (или не очень) промоушен-кампания. Аккурат в Наурыз многие (а может, и нет) казахстанцы увидели первые эфиры Turkistan Times в кабельной сети. А ещё раньше — на YouTube. Посмотрела их и медиааналитик «Нового репортёра» Алия Нагорнюк и очень удивилась.
Новый телеканал: чего же ждать?
21 марта в «Отау ТВ» и кабельных сетях начал вещать новый телеканал Turkistan TV. Но ещё в прошлом году можно было ознакомиться с его онлайн-версией на YouTube. Предполагалось, что канал будет работать на трёх языках: казахском (70 % вещания), русском (20 %) и турецком (10 %).
Как заявлялось в презентационных статьях, Turkistan TV планирует стать «золотым мостом» для обмена информацией между тюркоязычными странами (что, в общем-то, понятно) и формирования единого общего медиапространства (уж давно мы все в едином медиапространстве). Также сказано: «В эфире телеканала — актуальная информация и интересные программы, сериалы и документальные фильмы». Есть ли другая телекомпания, которая будет утверждать иное? И только в прошлогоднем коротком интервью руководитель канала упомянул: «Пока контент наполняем всей информацией, связанной с духовной столицей страны — с Туркестаном». Ключевое слово: «духовной». Но, безусловно, ожидаемо контент канала, во всяком случае новостной, имеет и политическую наполняемость, особенно в свете саммита тюркоязычных государств (его планировалось провести в Туркестане) и чрезвычайного заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Освещение таких событий требует аналитического подхода, владения политической лексикой, навыка работы в прямом эфире… Или это может быть эфирное зачитывание присланных пресс-релизов. Забегая вперёд: сбылось второе. Или ковидная тема — настолько часто освещаемая, что тут трудно изобрести креативный подход… Но, может быть, молодые и задорные журналисты вновь созданного канала что-нибудь предложат?
Стендап — это всё-таки не промоушен
«С 1 февраля 2021 года в Туркестанской области началась вакцинация против коронавируса», — сообщает нам Turkistan Times 16 марта. С первых слов незатейливого стендапа в самом начале (!) сюжета становится понятным, что надежды рухнули. Не креативом, а азбукой телевидения нужно овладевать «юным дарованиям» из Туркестана.
Сразу скажу: новость про 1 февраля 16 марта — уже не новость. Второе. Стендап указывает на присутствие журналиста на месте события (тогда это вызывает доверие зрителя к материалу) — в горячей точке, в центре политического события, в районе ЧП, но департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области к ним, к счастью, не относится.
Появление журналиста в кадре иногда решает структурную задачу — так легче перейти к следующему этапу изложения или сменить место съёмки (в чём, конечно, чаще всего помогает интершум), но иногда его недостаточно, чтобы перейти к другому видеоряду. Но в этом сюжете стендап не играет функции связующего звена. Связывать-то не с чем: материал, собственно, начинается с появления Назым Иноятовой в кадре. Если это не прямое включение, начинать сюжет с этого нельзя. Почему? Потому что начинать лучше с динамичного видеоряда.
И ещё. В стендапе важен фон, ведь вы обозначаете своё присутствие на месте события, поэтому должно быть движение (люди в масках, врачи ходят за спиной, разгружают медикаменты и т. д.), а не «живописная» белая дверь. И важен звуковой фон. Но ни шума улицы, ни звука сирены, ни шагов — в общем, никакой жизни.
И о таймере. 10 секунд. Ну 15, но не более. Журналист заняла 25 секунд. «На каком этапе вакцинация на сегодняшний день, расскажет заместитель главного санитарного врача области Ахметов Алдаркул Райымкулович», — говорит автор и, уже обращаясь к респонденту: «На каком этапе сегодня вакцинация, расскажите, пожалуйста». Зачем? Ведь все всё слышали. Причём синхрон чиновника длится почти полторы минуты, носит он общий характер и изобилует статистикой, место которой в графике. Но одно своё «предназначение» стендап выполнил — стал бесплатным промоушеном для журналиста.
Хотите новость — возьмите лупу
Практически безновостным кажется, на первый взгляд, сюжет о сельхозугодиях Туркестанской области. Немудрено, ведь автор как могла завуалировала наиболее интересную информацию: «Неосвоенные земли будут возвращены государству. Для этого проводится космомониторинг». Это должна быть первая строка сюжета.
Начало «традиционное»… для Turkistan Times: «Площадь Туркестанской области составляет более 11 миллионов гектаров. Из них 1 млн — земли сельскохозяйственного назначения. Посевная площадь составляет 847 тыс. га». Причём цифры в точности повторяет в синхроне и аким области. Перевод озвучивает некто, с законами интонирования совсем не знакомый.
Можно же другую статистику найти. Чиновник в своём интервью констатирует: «Кроме того, есть ещё луга и залежи, площадь их составляет 220 тысяч (тыщ — говорит начитывающий) гектаров. Что же с ними будут делать? Но далее автор рассказывает, что «в результате эффективной работы произведена продукция на 729 миллиардов тенге».
Текст беззастенчиво закрыт летним видео даже без плашки «Архив» или даты съёмок. А зритель лицезреет собранные яблоки, помидоры, уборку хлопка! Вот ЗДЕСЬ в сюжете, на фоне весенне-полевых работ, и нужен стендап журналиста. И герой, конечно, — тот самый «нуждающийся крестьянин» (ударение, кстати, на втором слоге — крестьЯнин), которому и должна быть передана неиспользуемая земля, а не чиновник на совещании. Информационный повод, связанный со всевозможными отчётами и совещаниями, необходимо подкреплять примерами и героями из жизни, а то и делать их главными.
Главные герои — лишь фон
Практически все новостные темы на канале связаны с вояжем или «этапом большого пути» начальствующих чинов. Они, как оказалось, — и главные герои. Рассказ о швейной фабрике — не исключение. Вот, казалось бы, есть момент: аким беседует со швеёй. Почему бы не поставить синхрон не чиновника, а человека, ради которого всё и затевается? Но нет, они лишь фон — пестрят на видео бирюзовые косыночки.
«В этом году около 70 тысячи медицинским работникам заказана спецодежда. Также планируется пошить школьную форму около 90 тысяч учащихся, нуждающихся в специальной социальной помощи в регионе». Орфография сохранена. Ну а стиль безжизненный совершенно. Рекомендация: «В этом году уже получен заказ — порядка 70 тысяч медработников получат новую одежду. (Яркие цвета порадуют не только врачей, но и больных.) Ну а маленькие туркестанцы из малообеспеченных семей примерят школьную форму. Таких счастливчиков в регионе около 90 тысяч». Хорошо бы найти и тех, кто носит одежду, сшитую на фабрике.
Зачин и этого сюжета — о том, что будет: «В этом году в Туркестане начнётся строительство завода по производству бытовой техники». Новости — не футуристический жанр, в них рассказывается о том, что произошло, причём только что, а не о том, что будет потом или было давно. Для подачи информации надо найти сегодняшний повод. На выручку обычно приходит статистика — по инвестициям, развитию производства в регионе, безработице… Только это должны быть свежайшие данные. Они всегда есть, нужно просто немного поработать.
В сюжете о новом районе — вновь лейтмотив «будет».
Если уж очень хочется, скажите, что аким сообщил (он же на трибуне в видео стоит и говорит об этом), или подождите до середины марта, когда и вышел указ президента. Но в этом сюжете (о чудо!) наконец появляются герои из народа. Но патетика порой зашкаливает: «Саруан — это новая стадия развития нашей страны». Может быть, пока областью ограничимся?
Однообразная подача объясняется и авторством, во всяком случае контента на русском языке. Такое ощущение, что автор один и тот же. Что ж, новости одного репортёра — это нечто новое, даже героическое. Но потребитель информации нынче придирчив, даже капризен, и если не разнообразить эфир и не усвоить стандарты подачи новостей, зрителя столь молодому каналу можно и не обрести.