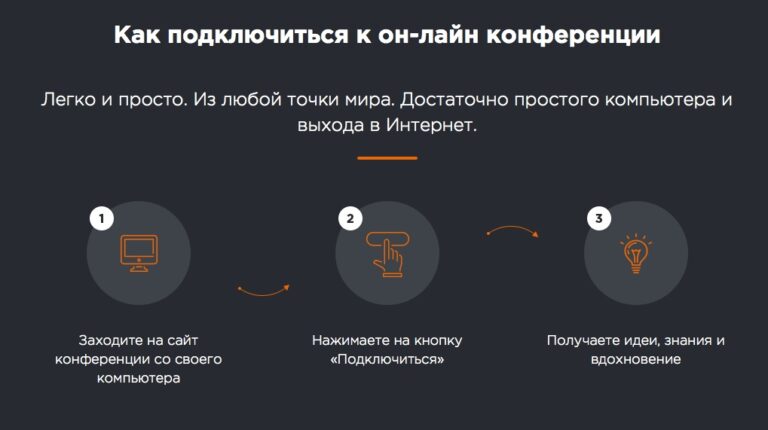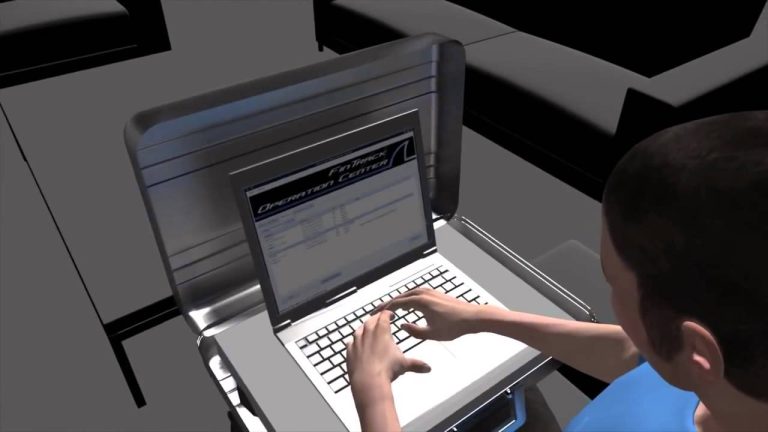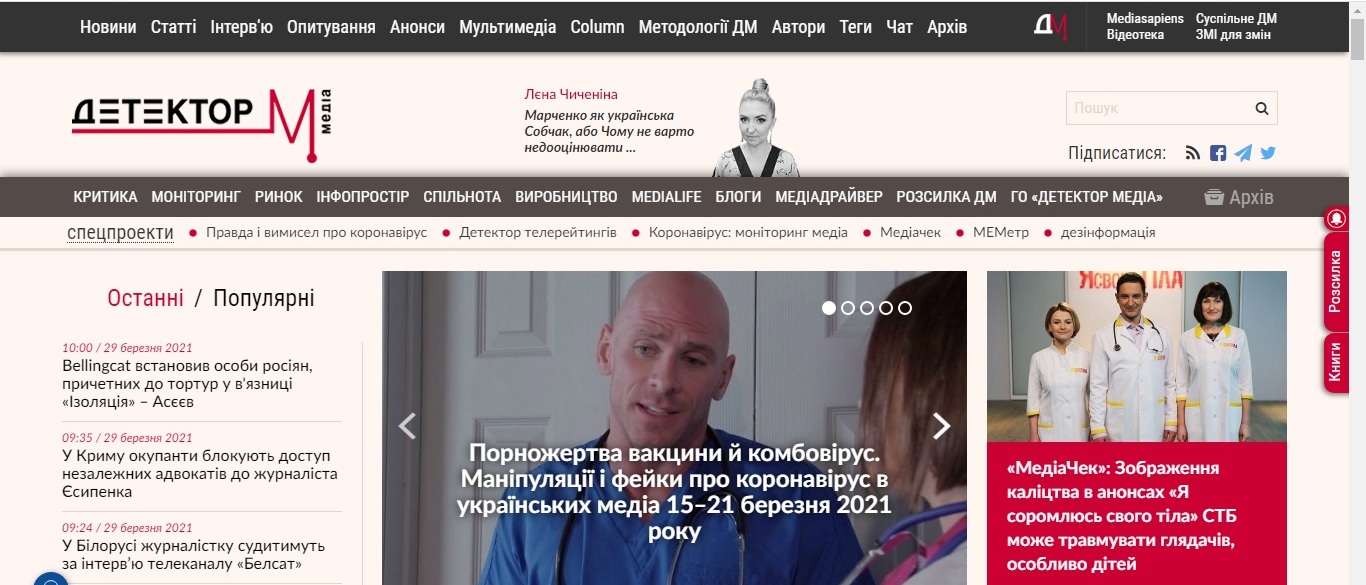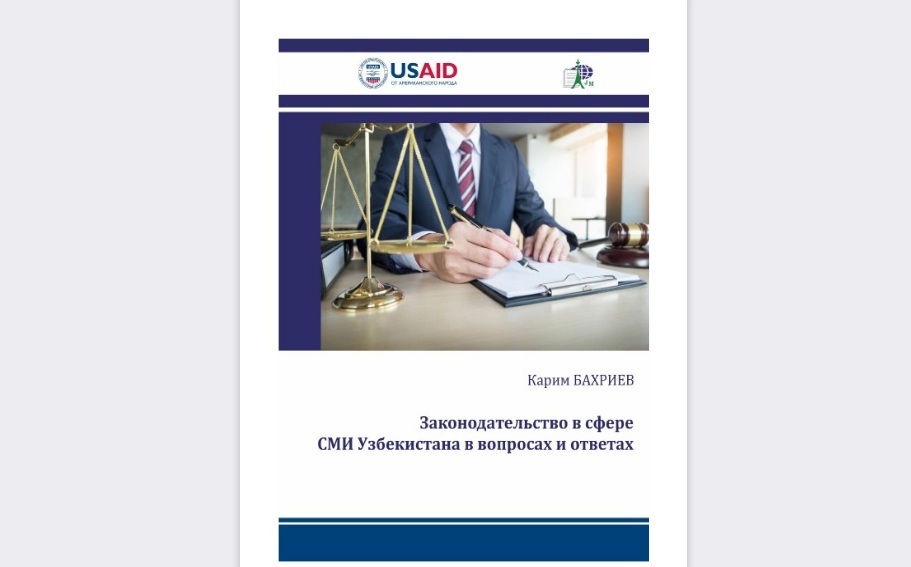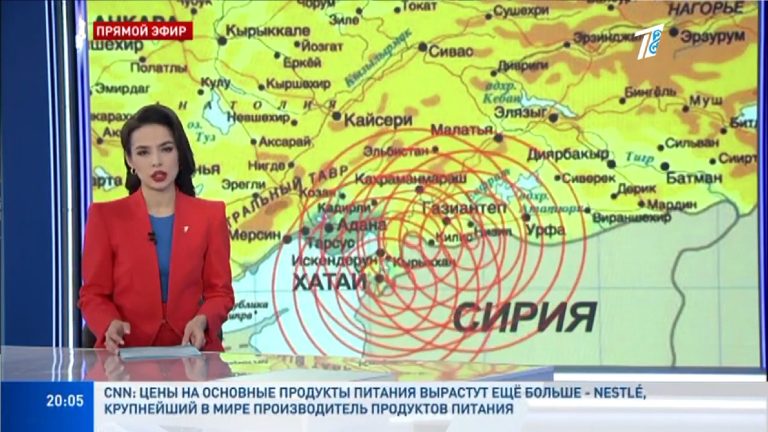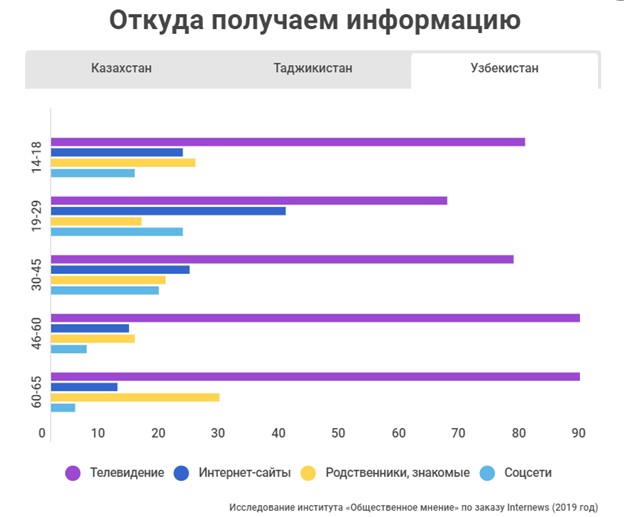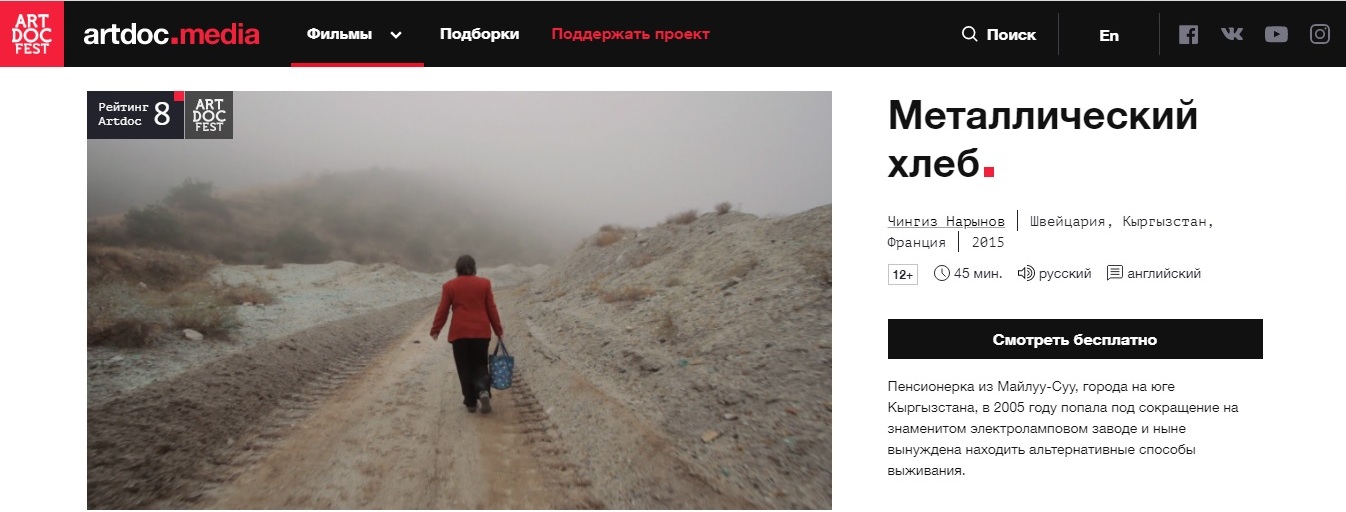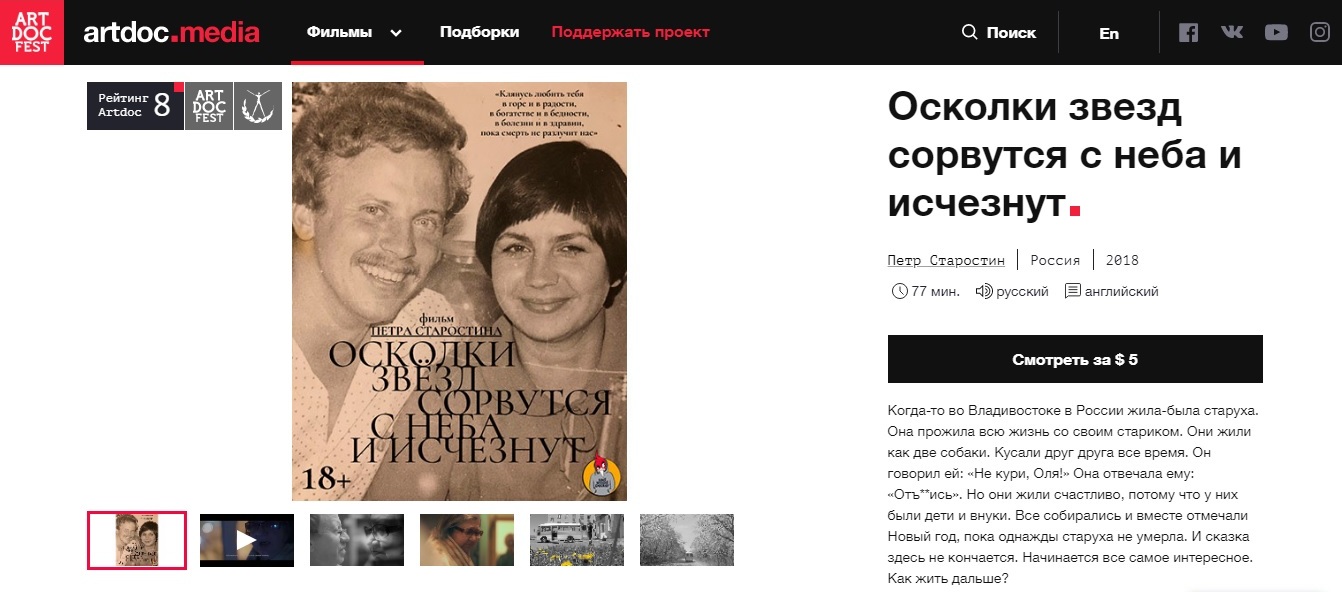Новости — оперативная информация, интересная людям своей первозданностью и первичностью, то есть это сообщения о событиях недавних или происходящих в данный момент. Но даже такие тематически простые материалы, как сюжеты про Наурыз, обнаруживают забывчивость или некомпетентность журналистов. Алия Нагорнюк просмотрела праздничный контент.
«Сейчас» — главное слово
В условиях пандемии коронавируса, да ещё когда мы постоянно в разных цветах (чаще всего в «красном»), Наурыз отразился в новостях скучно, шаблонно, почти формально. Логика понятна: нет события, нет и новости. Поэтому многие, игнорируя законы жанра, просто совершили исторический экскурс, сдобрив его архивным (если не архаичным) видео.
К примеру, канал «Мангистау». Автор очень невнятно, отнюдь не праздничной или хоть сколько-нибудь бодрой интонацией, глотая звуки, рассказывает о традициях празднования Наурыза в Иране (почему-то упоминая персидские народы), в Азербайджане, в Кыргызстане. Лекционно-учебная стилистика иногда перетекает в высокий стиль: «Младшие ходят к старшим узнать их здравие». Может, просто «расспросить об их здоровье»?

Конечно, историческая или этнографическая справка, может быть, и нужна в сюжетах, но в новостях должны быть отражены реалии сегодняшнего дня. А как же сейчас (главное наше слово) проходит праздник в том же Иране или Азербайджане? Ковид и Наурыз — вот главная коллизия дня в этой теме. Такую попытку на канале предприняли, но…
О Наурызе в нашей стране в первую строчку вынесли: «В честь долгожданного праздника Наурыз жители нашей страны будут отдыхать пять дней». Хотя об этом есть отдельный материал. Затем вспомнили о том, как было раньше: «Каждый год на берегу моря в Актау ставили белые юрты и устраивали пышные празднования». И лишь потом рассказали о Наурызе в условиях ограничений из-за ковида.
Хотелось бы обратить внимание на отрывочность речи большинства сюжетов. Каждое предложение — как отдельное высказывание. «В дни празднования Наурыза во всех городах и районах области пройдут ярмарки сельхозпродукции и местных товаропроизводителей. А 22 марта общественный транспорт в черте города будет обслуживать пассажиров бесплатно. А наш телеканал готовит к эфиру проект «Армысың әз-наурыз». Программа будет транслироваться 22 марта в течение четырёх часов в прямом эфире. Во время передачи будет установлена прямая связь с шестью областями республики». Спотыкаешься на каждом предложении.
Рекомендация: «В дни празднования Наурыза во всех городах и районах области пройдут ярмарки сельхозпродукции и местных товаропроизводителей. До них горожан совершенно бесплатно доставят автобусы — платить за проезд в общественном транспорте 22 марта не обязательно. К этому дню наш телеканал готовит к эфиру проект «Армысың әз-наурыз». Программа продлится в прямом эфире четыре часа. За это время вы узнаете, как проходит праздник в других регионах — будет установлена прямая связь с шестью областями республики».
Тайны мадридского двора… про Наурыз
О новой концепции праздника поведали на телеканале Atameken Business. Она обсуждалась задолго до самого праздника и, естественно, была доступна, и её разные варианты тоже, но на канале (вполне, казалось бы, серьёзном по определению) в подводке заявили в духе таблоидов: «Концепт нового формата празднования оказался в распоряжении редакции Atameken business». А в самом сюжете не преминули добавить: «Такие формы демократичного и доступного празднования в западных и восточных (почему-то во множественном числе) культурах и требует намного меньше средств, говорится в проекте документа, который попал к нам в руки». Ну ни дать ни взять — тайны мадридского двора! Про Наурыз!
«Тем не менее, наши соотечественники за пределами страны отмечают праздник масштабно и с размахом», — утверждает автор сюжета. А на видео скромно стоящая юрта во дворе университета и девушка на балконе играет на домбре. А вот предыдущий текстовой сегмент про Казахстан закрыт настоящими тоями, толпами празднично одетых людей, концертами и спортивными состязаниями, этих людей собирающих. Даже странно, мы же вроде как с эпидемией боремся… И поставить плашку «Ахивное видео» или год съёмки не удосужились.
Тортик от КТК
На КТК в таком титре не нуждались, потому что обратились, как и положено новостникам, ко дню сегодняшнему.
По видео — полупустые улицы с нарядными юртами. Зрителям предложили развёрнутый сюжет, по структуре — просто дайджест с мест. Причём материал по композиции напоминает многослойный пирог. Правда, слоя всего два: праздник и ковид. Есть и помадка, но не сладкая: каждый сегмент заканчивается обращением главного санитарного врача региона. Вот такой «тортик»…
На Astana TV мудрствовать не стали: сняли депутата, раздающего подарки; дали «кулинарный» сюжет и обращение Антониу Гутерриша вставили.
Материалы короткие, но ошибки есть.
К примеру, о щедром депутате. «Женщина в одиночку воспитывает двоих внучек». В одиночку на волка ходят, например. А женщина одна воспитывает внучек. И двух внучек, а не двоих. «Депутат поддерживает нас на постоянной основе». Без канцеляризмов никуда. По-человечески будет так: «Депутат поддерживает нас постоянно». И удивляет неточный перевод синхрона. Апашка же по-другому сказала.
Трудно сказать, чего в праздничном новостном контенте больше: про Наурыз или про ковид, и что является фоном, а что главным. Посыл новости определяет редакция. Главное, чтобы она была, эта новость, то есть то, что произошло только что или происходит сию минуту. Именно эта отправная точка и стала критерием оценки профессионализма в такой простой теме о празднике. Во всяком случае, для меня.