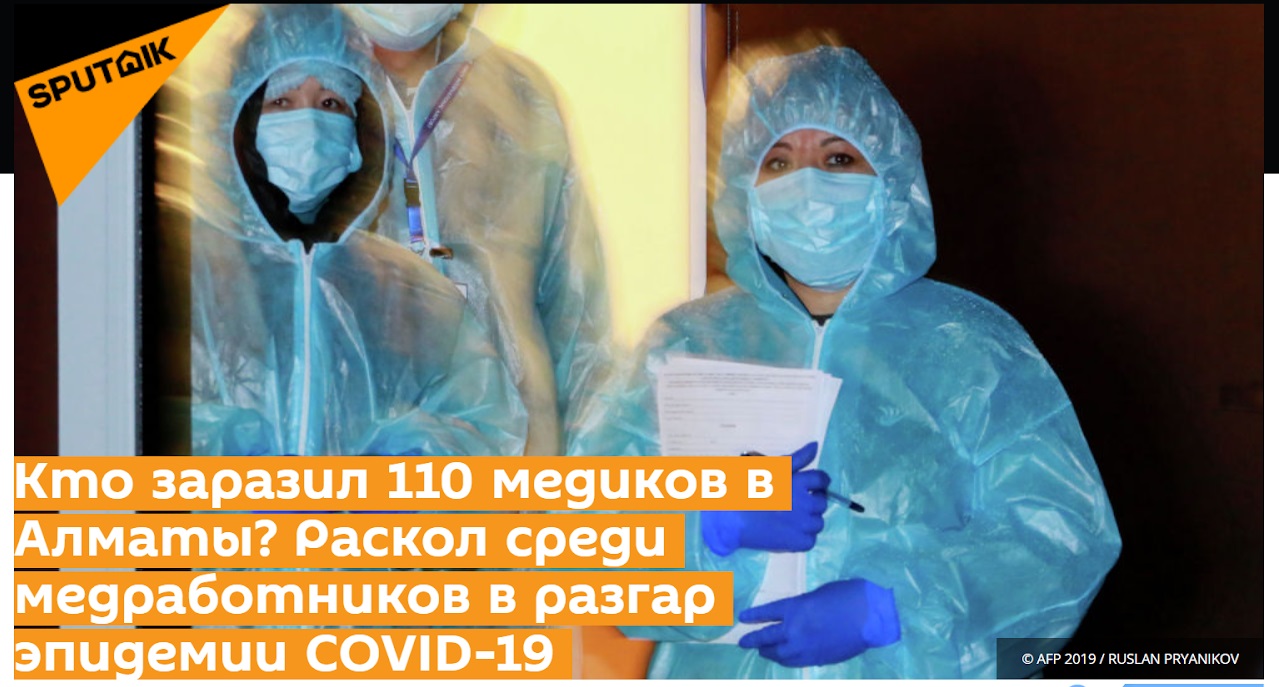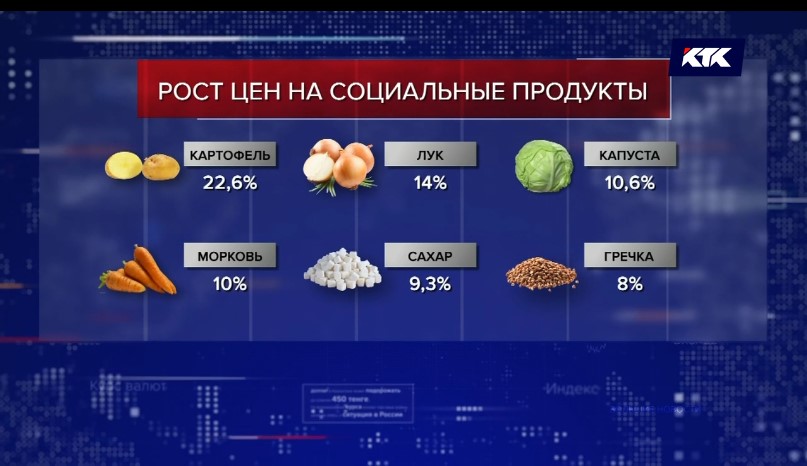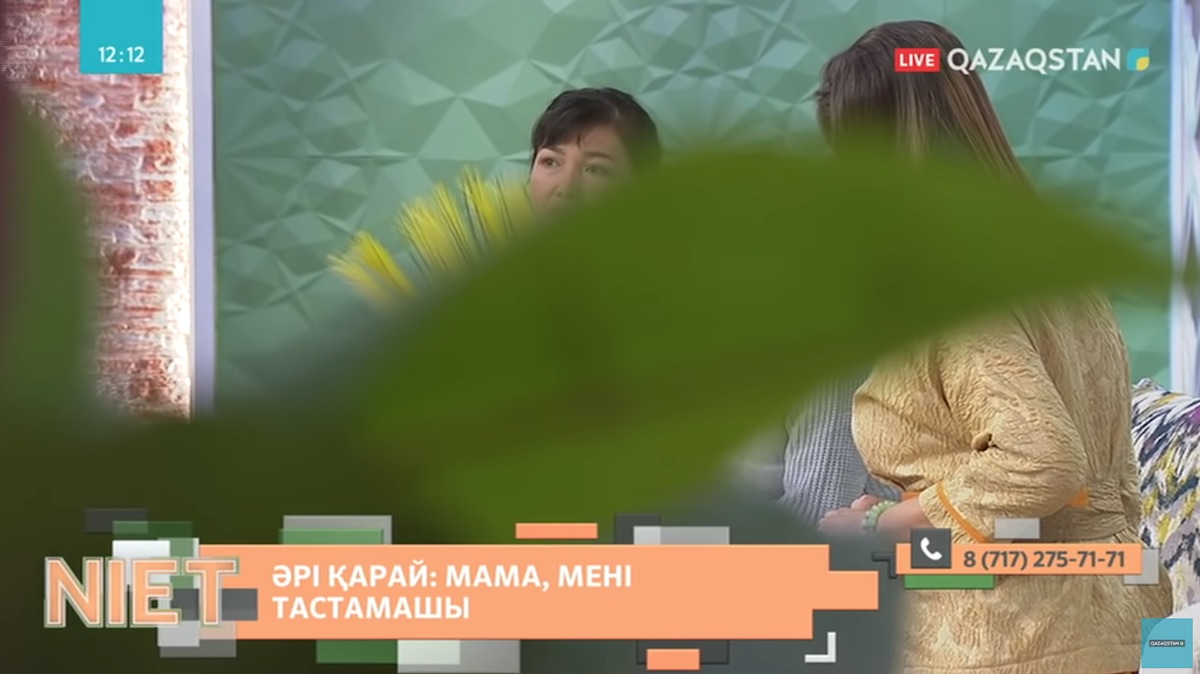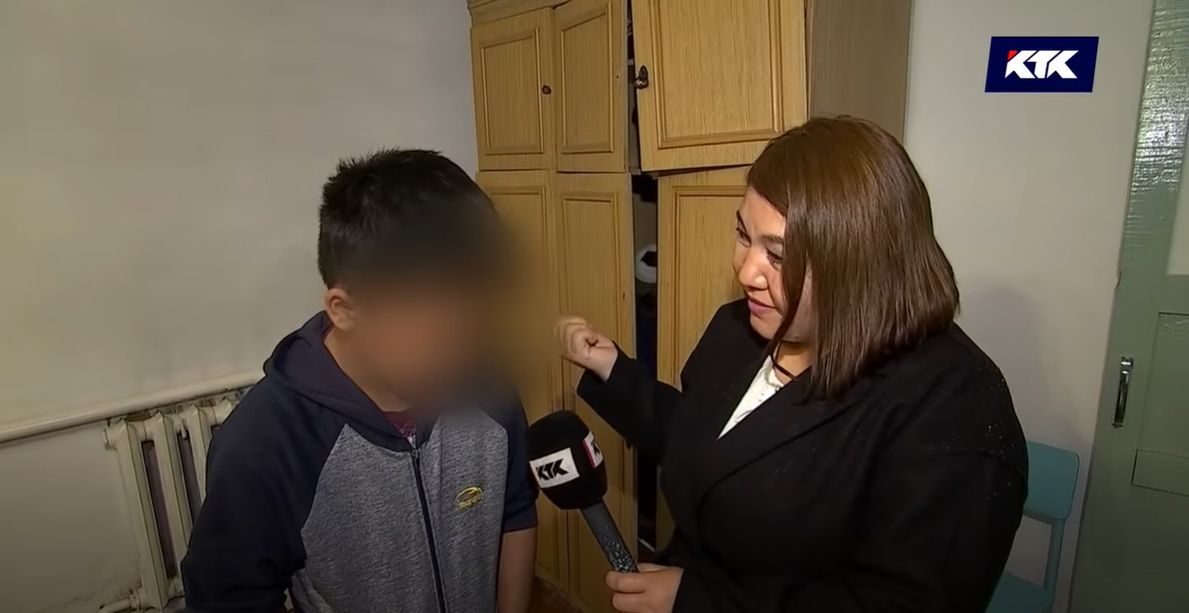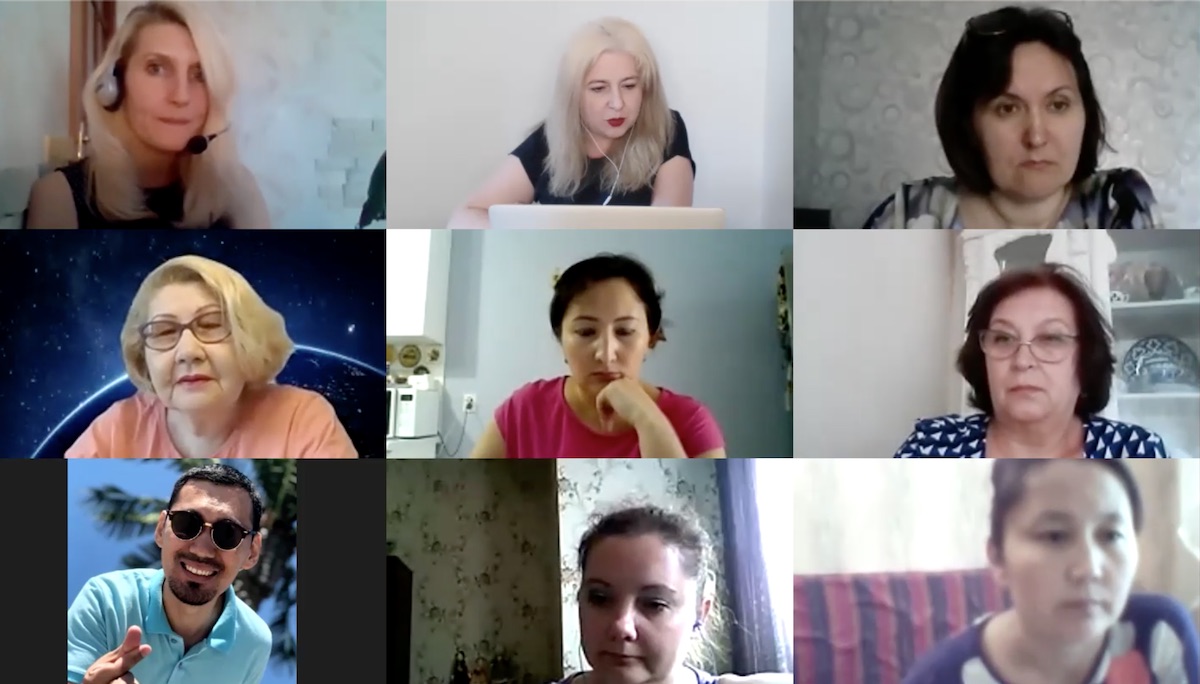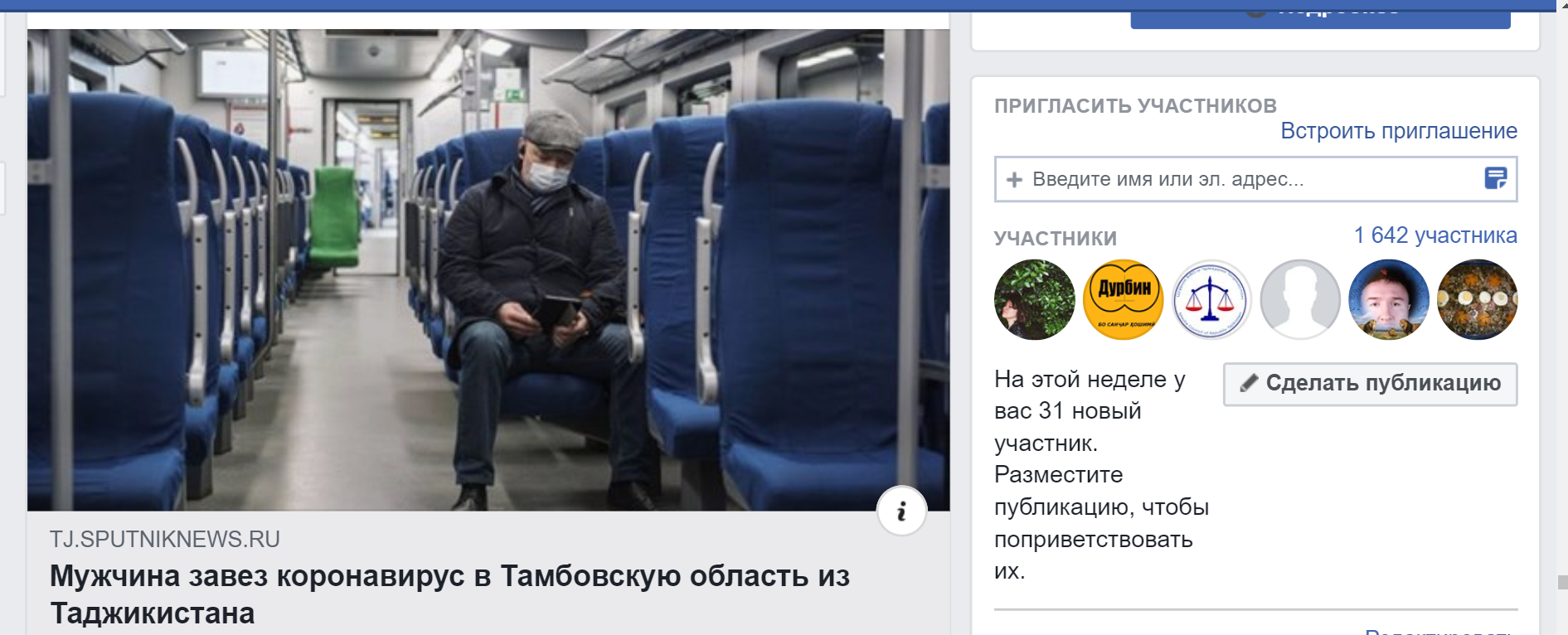На этой неделе коронавирус почти совсем исчез из топа итоговых программ. Все три («Больших новостей» не было) начались с главной темы недели — празднования 75-летия Великой Победы.
Все сюжеты о 9 Мая были построены на историях ветеранов, все сняты с разной степенью «проштампованности» — вроде и понимают журналисты, что нельзя к такой теме подходить формально, но, видимо, по-другому пока не умеют.
Ликвидация последствий наводнения на юге Казахстана — вторая главная тема: о том, как помогают пострадавшим от техногенной аварии в Узбекистане, рассказали все.
В нашем обзоре — итоговые программы «Хабара», «Первого канала Евразия» и QAZAQSTAN.
«Большие новости», КТК
На этой неделе «Большие новости» не вышли в эфир из-за праздников.
«7 кун», «Хабар»
Программу начали с 75-ой годовщины Победы: «Из-за пандемии отметили без традиционных массовых шествий с портретами великих предков в руках, но, несмотря на это, по-прежнему ничто не забыто, никто не забыт, они всё так же с нами, они всё так же среди нас». Тема продолжается в сюжете: раз ветераны не смогли прийти на праздник, праздник пришёл к ним. В Усть-Каменогорске напротив дома 101-летнего ветерана поставили большой LED-экран. Рассказали историю ветерана, показали его поздравление с праздником. Другой фронтовик из Шемонаихи тоже отметил 101-летие и поделился секретом долголетия: здоровый образ жизни и хорошее настроение. В аналогичном формате рассказали другие истории ветеранов из разных регионов. Не упустили и истории бойцов, не доживших до наших дней — потомки бережно хранят память о них: фронтовые записки, фотографии и медали. На фоне этих историй про людей несколько странной и чужеродной смотрелась вставка про научно-практическую конференцию в ЕНУ им. Гумилёва.

Пострадавшим от прорыва дамбы на юге Казахстана помогут. Сюжет называется «Большая вода». После короткого бэкграунда сразу пустили опрос жителей — их хорошо приняли, всех кормят, у детей даже игрушки есть. Корреспондент рассказывает: сначала разместили людей, а потом начали подсчитывать убытки. Пострадавшим помогают со всего Казахстана, активнее всего — жители Арыса.
Накануне отмены режима ЧП команда «7 кун» подводит итоги своей изоляции. Со следующей недели в эфир она выйдет уже из студии. За это время ведущий Александр Трухачёв научился монтировать, стал немножко звукорежиссёром и чуть-чуть парикмахером. О своей жизни в карантине рассказали и другие участники команды в сюжете Амира Саменбетова, который появляется в кадре с девятимесячной дочкой. Елена Устимович вместе с дочерью осваивала онлайн-обучение, а работа сблизила её с соседями — они помогали ей делать сюжеты. Айгуль Амантаева на карантине попробовала снять сюжет полностью на мобильный телефон и узнала, как сложно следить за кадром и одновременно произносить текст. Кто-то научился готовить, кто-то занимался дома спортом. В общих чертах рассказали и о других коллегах — например, о корреспонденте «Хабар 24», который сделал предложение своей возлюбленной в прямом эфире. Душевный, в общем, сюжет.
В качестве добивки ведущий показал ещё одно своё достижение: время, которое обычно уходило на дорогу до работы, Трухачёв потратил на то, чтобы получить навыки плотника. Он огородил свои грядки, чтобы пёс Марс не мог таскать морковку.

«Аналитика», «Первый канал Евразия»
Программа началась с Дня Победы. Правда, подводка к блоку о том, как ветераны и их благодарные потомки отмечали его в этом году, была так сложно закручена, что не сразу стало понятно: это про 9 мая или коронавирус? Авторы не могли не провести эту довольно очевидную параллель, но сделали это уж очень витиевато. Сам сюжет начался с эффектного стендапа, снятого при помощи дрона: когда камера отдаляется от корреспондента, мы видим мурал с изображением Бауыржана Момышулы, нарисованного во всю стену многоэтажного дома. Внутри материала — ветераны, кто такой политрук, первый военный выпуск «Комсомольской правды», женщины на фронте и так далее, темы вроде бы плавно перетекают из одной в другую, но логики в построении сюжета мало. Примерно как и во фразе из самого сюжета — про фильм «А зори здесь тихие» и его героинь: «Пусть их история и была немного выдуманной». Вообще хорошо снимать про такой важный праздник, как День Победы, очень трудно. Но авторы этого материала, похоже, собрали в него все штампы, какие только можно было вообразить — от ветеранов, поющих «Вставай, страна огромная!» до фраз вроде «на войне смерть всегда ходит рядом» и «ковали Победу».
Сюжет про то, как лихо и жёстко с коронавирусом справилась Северо-Казахстанская область (там уже какое-то время не регистрируют новых заболевших) из-за проблем с балансом напоминал агитку. Общий посыл: да, всё перекрыли и всё позакрывали, может, где-то даже и перегнули палку, зато смотрите, как у нас теперь хорошо. А жители домов с запечатанными подъездами слушают концерты на балконах: артисты-волонтёры поют им песню про то, что «завтра будет лучше, чем вчера». Не на что жаловаться. В сюжете и не дали никому пожаловаться.
Материал про наводнение в Туркестанской области получился обстоятельным и полным, но несколько перегруженным цифрами.
По коронавирусу в мире сделали сюжет-калейдоскоп: как планета оправляется (или не оправляется) от последствий пандемии: в США открыли ТРЦ и пляжи, в Китае дети вернулись в школу, в Гонконге за людьми в парках следит собака-робот, в Таиланде от коронастресса лечатся кошками, а в Бразилии коренные племена, следящие за тропическими лесами, оказались отрезанными от медицинской помощи.
Apta, QAZAQSTAN
Несмотря на долгие выходные и праздники, эта программа получилась длиннее обычного — 52 минуты вместо 45. Началась она с короткого сообщения о том, что Касым-Жомарт Токаев 11 мая проведёт заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.
Первая большая тема выпуска — как и у всех, День Победы. И, конечно, поздравление президента. Сюжет начался со стендапа в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Корреспондент говорила, что каждый год 9 мая тут собиралось множество людей, а в этом году — ни души. Авторы программы избегали называть войну «Великой Отечественной» — только просто «война» или «кровавый фронт». И в титрах то же: просто «ветеран войны».
Сюжет о последствиях наводнения в Туркестанской области получился информативным, подробно рассказали в том числе и о поддержке пострадавших, которые остались без крова. Кстати, в прошлой программе Apta предположили, что Узбекистан не выплатит Казахстану компенсации. В этой — упомянули о финансовой помощи со стороны Алишера Усманова и фонда Булата Утемуратова.
Интервью выпуска — с советником президента Ерланом Кариным. В подводке ведущая Жайна Сламбек упомянула, что интервью это взято после статьи президента в газете «Егемен Қазақстан». Непонятно, какую статью она имела в виду, потому что 5 мая в газете вышло интервью с президентом РК, а не его статья. Интервью получилось длинным, в основном говорили об этапах политических реформ, о создании парламентской оппозиции.
Первый «коронавирусный» сюжет появился только в середине программы — о том, как у нас готовят инфекционистов и санэпидемиологов, и нужны ли они вообще. Заметим, что на КТК об этом рассказали ещё две недели назад.
Далее — материал на одну из самых обсуждаемых тем последнего времени, про вакцинацию. Поговорили и с автором петиции против обязательной вакцинации, и с медиками. Сюжет на конфликтную тему получился полным и подробным.
Самый милый сюжет выпуска — про сайгачат в степи. У этих животных как раз начался окот. Журналисты Apta поехали в степь вместе с сотрудниками Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК. В стендапе корреспондентка трогает и даже обнимает только что родившегося сайгачонка. «Новый репортёр» спросил экологов, можно ли так делать? Они ответили — можно, но недолго, малыши от такого контакта могут и погибнуть. А вообще сюжет познавательный и красивый, кадры с новорождёнными сайгаками очень трогательные, и информации много, упомянули в том числе и погибших от рук браконьеров инспекторов.
Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.